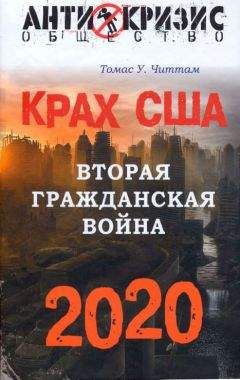Мария Голованивская - Признание в любви: русская традиция
Сегодня в среде российских состоятельных людей «вторые» семьи стали практической нормой, хотя в культуре и нет однозначного осмысления этой практики. Мы продолжаем дискутировать: нужно ли скрывать, можно ли лгать во имя сохранения семьи и дома, чьи интересы являются приоритетными и так далее – именно потому, что литература, на которой мы выросли и в которой до сих пор ищем экзистенциальные ответы, задав саму такую возможность, больше ничему не научила нас окончательно?
Анна Каренина ушла из семьи к любимому мужчине, и это обернулось образцово-показательной трагедией, канонизированной русской культурой. Гуров и Анна Сергеевна прожили в двойной жизни долгое время и для них это было, может быть, самым ценным из прожитого. Адюльтер – французское слово и ему нет русского аналога. Григорий и Аксинья заняты отнюдь не адюльтером, они живут свою жизнь, продиктованную их судьбой-судьбиной. То же и Анна Каренина, она пошла под поезд, а не по рукам, потому что в ее голове был не адюльтер, а что-то, для чего русский язык не нашел иного слова, кроме слова судьба. И Каренина, и Григорий с Аксиньей наследуют Катерине, для которой измена равняется потере пути, а это, в свою очередь, верная погибель. Адюльтер – у Тургенева в «Дыме», где Ирина на европейский манер рассматривает измену как право на выбор (такая частная демократия, творящаяся в душе одного человека) и, следовательно, как свободу, а Литвинов женоподобно пишет ей, что отныне будет жить любовью. Вот она, европейская риторика:
– Но, Ирина, ты меня любишь?
– Я люблю тебя, – ответила она с почти торжественною важностью и крепко, по-мужски, пожала ему руку.
И дальше Ирина говорит Литвинову в ответ на его письмо:
«Вот ты пишешь, что моя любовь для тебя все заменила, что даже все твои прежние занятия теперь должны остаться без применения; а я спрашиваю себя, может ли мужчина жить одною любовью?», добавляя самое главное: «Будем свободные люди!… Ты знаешь, ты слышал мое решение, ты уверен, что оно не изменится, что я согласна на… как ты это сказал?.. на все или ничего… чего же еще? Будем свободны! К чему эти взаимные цепи? Мы теперь одни с тобою, ты меня любишь; я люблю тебя; неужели нам только и дела, что выпытывать друг у друга наши мнения?»
Русская культура, запечатленная в русских художественных книгах, содержит в себе две параллельные возможности, связанные с «перевыборами» избранника: исконную, идущую от темы двух половин (человек тут не элемент конструктора и не может подходить к разным другим половинам, ведь половины образовались от разрывания целого и поэтому их сочетание уникально, единственно), и новую, европейскую, идущую от понятия свободного выбора и свободы, которая присуща французской послереволюционной бытовой культуре.
Но что такое свобода в любви и как она мыслится?
Какие последствия имеет это сочетание понятий? И имеет ли это сочетание хоть какие-то русские истоки?
Как и все, что касается свободы, для нас не исконно. Искусственно. Как у Чернышевского в пресловутом романе «Что делать?», В его совершенно неживой, то есть ничего не отражающей и не моделирующей книге «Что делать?». Вот она, свобода, повенчанная с любовью: «Знаешь ли, что мне кажется, мой милый? Так не следует жить людям, как они живут: все вместе, все вместе. Надобно видеться между собою или только по делам, или когда собираются вместе отдохнуть, повеселиться». Или: «Такие мысли не у меня одной, мой милый: они у многих девушек и молоденьких женщин, таких же простеньких, как я. Только им нельзя сказать своим женихам или мужьям того, что они думают; они знают, что за это про них подумают: ты безнравственная. Я за то тебя и полюбила, мой милый, что ты не так думаешь». Как же часто любовное объяснение в этой книге прибегает к словам «борьба», «свобода», «страдание»!
Русское слово «свобода» связано по своему происхождению со словом «свой» и в привязке к нашему исторически обусловленному контексту означает «свое, собственное, отдельное от других положение». Разве такое положение может быть у половины, входящей в союз? Разве русское «мы», возникающее в этом союзе, равняется «я» плюс «я», как у европейцев? У европеизированных русских – да, у неевропеизированных, уверена, нет.
Подлинная европеизация, сочетание понятий любви и свободы были привиты русской культуре после 1917 года, когда в Россию хлынула французская революционная и немецкая социал-демократическая мысль, и уже в последние времена, вместе с европейскими и американскими книгами и фильмами. Что-то, конечно, донеслось и от революции 1968 года: хрущевская оттепель позволила свободной любви донестись и через песни «Битлз», и через фривольные европейские киноленты, но все это выросло именно в параллель, а никак не срослось с главной и актуальной до сих пор доктриной русской любви. Свобода в любви – это демократизм и в отношении выбора партнера (я уже говорила о том, что русская литература дала здесь свои нетленные образчики), и в понимании самой сути верности: верность – это понятие духовное, а телесно можно сближаться по свободному выбору.
Свобода, наконец, выражается во все большем и большем приятии статуса одиноко живущего человека (мужчины и женщины), признания права и на такой выбор пути. Несмотря на то, что исконно русская традиция отрицает такой вариант жизненного пути: холостой – как заряд – означает пустой, бессмысленный, а незамужняя бездетная женщина достойна только жалости, как ущербное и неполноценное существо. У Анчарова в «Самшитовом лесе» по этому поводу есть прекрасное рассуждение:
«Нельзя, – сказала она. – Баб ты не знаешь. Бабе одной страшно и перед другими бабами стыдно, бабе дом нужен – муж, дети, это ясно… А когда все есть и она еще в теле – ей одного мужика мало. Вот, к примеру, выйди Анна Каренина замуж за Вронского без помех – она бы ему первая рога наставила, а уж тогда бы он под поезд кидался».
К европейским идеям «одинокого стрелка» и адюльтера вплотную примыкает еще одна мировоззренческая модель, трактующая любовь как эксперимент. До сих пор мы часто думаем или говорим о любви, используя глагол «попробовать» («попробуй, а там посмотришь»). С одной стороны, такая конструкция вполне преемственна по отношению к высказанному в «Анне Карениной» взгляду на любовь как на возможность счастья или несчастья, но с другой, здесь все же не о возможности идет речь, а как бы об исследовании жизни, о познании ее через опыт. И в этом смысле это глубоко просветительская, заимствованная у европейцев модель.
Отчетливо эта модель формулируется у Чехова в «Попрыгунье»:
«Пусть осуждают там, проклинают, а я вот на зло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну… Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»
Рассуждения о типах любви (в «Даме с собачкой») также содержат эту возможность, когда Гуров думает о женщинах, обладающих «упрямым желанием взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать». Опытность сродни опыту, но в данном случае в интимной сфере. Опыта (опытности) набираются Клим Самгин и Фома Гордеев, познавая «через это» мир людей.
Любопытно, что понятие любовной опытности в начале литературной традиции выражалось через отрицание ее. Мы все помним «души неопытной волненье», «обман неопытной души». Такое использование понятия является очень классическим и близко к обозначению невинности и девственности того, о ком идет речь. Вот, что мы находим у Тургенева в «Дворянском гнезде»: «Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен; я обманулся, я увлекся красивой внешностью». И у Пастернака в «Докторе Живаго»: «Легко представить себе твою недетскую боль того времени, страх напуганной неопытности, первую обиду невзрослой девушки. Но ведь это дело прошлого». Опыт как любовное знание появляется впервые у Гончарова в «Обломове»: «Кто ж внушил ей это! – думал Обломов, глядя на нее чуть не с благоговением. – Не путем же опыта, истязаний, огня и дыма дошла она до этого ясного и простого понимания жизни и любви». И там же: «Да разве после одного счастья бывает другое, потом третье, такое же? – спрашивала она, глядя на него во все глаза. – Говорите, вы опытнее меня».
Из этого выросло вполне оформленное понятие опыта, многократно встречающееся в советской и современной прозе.
У Булгакова в «Днях Турбинных» читаем такой диалог:
Шервинский. Лена, не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза. Я видал женские глаза. В них все видно.
Елена. Ну да, вы опытны, конечно.
У Трифонова в «Студентах» – такой:
– Я все-таки старше тебя и немного опытней, просто так жизнь сложилась. Ты не обижайся. Я хочу сказать, что когда женщина может быть для тебя только женщиной, – это очень мало.
У Абрамова в «Братьях и сестрах»:
– Я еще девчушкой была, как ее замуж выдавали. Все за столом как люди пьяные да веселые, а она одна как на похоронах. Бледная, ни кровинки в лице. Мне лет девять, видно, было, босиком еще бегала, а я уж все понимала, – не без гордости заметила Варвара о своей ранней опытности. – Бабы шепчутся: «Невесела невестушка», – а какое ей веселье, когда тошнит…