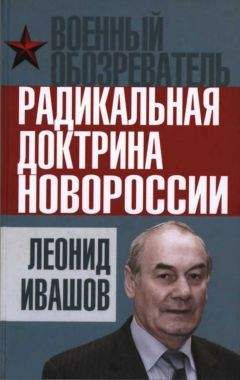Лев Троцкий - Проблемы культуры. Культура старого мира
Начнем с его семьи. Строй ее чисто мещанский. Отец – владыка, более или менее неограниченный повелитель. По словам матери: «мы все страдаем под гнетом отца». Сына отец бил, когда тому уже было пятнадцать лет, может быть, «выколачивая из него, по образному выражению Лохмана, все мещанское».
Мать семьи, «беспокойная, озабоченная женщина», занятая, как и подобает, постоянными хлопотами по хозяйству. Она добра душой, стоит за семью и добродетель, охрана которых, согласно ее миропониманию, должна лежать на полиции. «Полиция у нас все терпит! – жалуется она с горечью, указывая на всеобщую распущенность, а сыну угрожает: – если я узнаю, что здесь замешана какая-нибудь такая женщина, клянусь тебе, и бог мой свидетель, что я передам ее в руки полиции!».
Гауптман, по-видимому, сам затрудняется изображением отношений, существующих между Крамером и его женой: замечательно, что он ни разу не сводит их вместе на протяжении всей драмы.
По-видимому, такого рода семья должна давать столь исключительному, выдающемуся человеку, каким, по замыслу автора, является Крамер, весьма мало поводов для идеализации «семейного начала». Тем не менее Крамер говорит Лохману: «У человека должна быть семья; это очень хорошо, так и подобает». Почему это так уж очень хорошо и почему это подобает, Крамер не говорит, а его собственная семейная жизнь способна служить этому утверждению лишь отрицательной иллюстрацией. И у читателя по необходимости остается такое впечатление, будто Крамер просто повторяет мещанские сентенции на тему о благодетельности семейных уз. Но как же тогда, о, г. Струве! усмотреть тут борьбу с культурной буржуазностью?
Не лучше и другие поучения (Крамер всегда поучает) старого художника: «Ах, послушайте, люди слишком много грешат!..» «Надо работать, постоянно работать, работать, Лохман!.. Послушайте, мы должны трудиться, Лохман! Иначе мы заживо заплеснеем… Работать, это жизнь, слышите ли, Лохман? Без работы я ничего не стоящая дрянь. Только работа меня делает человеком»… «Если бы сын мой сделался сапожником и, как сапожник, исполнял бы свой долг, я, видите ли, относился бы к нему с таким же уважением». (Курсив мой. Л. Т.) «Обязанности! обязанности! Это главное. Только они делают из тебя настоящего человека, слышите ли?.. Нынешние лодыри воображают себе, что мир – ложе блудницы. Человек должен признавать обязанности, слышите ли?» Наконец, Михалина Крамер, впитавшая в себя всю моральную философию отца, говорит, ссылаясь на отцовский авторитет: «Мириться, мама, это удел всех людей. Держать себя в руках и пробивать себе дорогу к высшему – это долг каждого»…
Позвольте, позвольте! Все это очень благонамеренно и заслуживает всяческого поощрения. Но где же тут борьба против «культурной буржуазности», где тут «выколачивание всего мещанского»?
Все эти речи мы слышали, слышали, слышали…
Разве не Смайльс, словоточивый, тусклый, приторно-добродетельный, благонамеренно-затхлый оракул лавочников, вдохновенный пророк бакалейной, галантерейной и москательной аудитории, разве не он на протяжении тысяч страниц говорит о священном, великом, неоценимом благодеянии труда, постоянного труда?.. Разве не он поучает при помощи убедительнейших примеров, аналогий, сопоставлений, текстов, доводов от мещанского разума, аргументов от филистерского сердца, что каждому человеку, достигнувшему известного возраста, надлежит обзавестись семьей, ибо «так подобает»?.. Разве не тот же Смайльс с благородным гражданским воодушевлением требует уважения к сапожнику – да, даже к сапожнику, если тот «честно исполняет свой долг»? Или, может быть, вы осмелитесь утверждать, что он, Смайльс, не провозглашал всегда, что «люди слишком много грешат», и не приглашал их немедленно исправиться? Или он не призывал их к выполнению обязанностей, священных обязанностей по отношению к себе, семье, ближним, государству и богу? Или не рекомендовал им неустанно мириться с ударами судеб, «держать себя в руках» и честным (непременно честным!) трудом «пробивать себе дорогу к высшему»?..
Правда, может быть, Смайльс и его многочисленное духовное стадо вкладывают в такие речи массу чисто-мещанского лицемерия, тогда как Крамер говорит их с полной и глубокой искренностью, но размах мысли у него нисколько не шире, а речи его – это старые, слишком хорошо знакомые речи, и поверьте, г. Струве! – крайне дико звучат они в устах «борца с культурной буржуазностью».
Что это в самом деле за неуклюжее обещание уважать даже сапожника, лишь бы он «честно исполнял свой долг»! Неужели же нельзя оставить сапожника в покое и не приставать к нему, якобы от имени высшей морали, с пошлыми требованиями честного исполнения долга? Можно, казалось бы, оставаться на этот счет спокойным: строй современного культурно-буржуазного общества путем законов спроса и предложения, путем неумолимой конкуренции, чисто автоматически и потому безошибочно следит за тем, чтобы сапожник «честно исполнял свой долг», т.-е. за минимальную плату расходовал максимальную энергию, при чем за невыполнение этого «долга» общество знает великолепную по своей действительности меру репрессии: голодную смерть. Вопрос в том, честно ли выполняет свой долг по отношению к сапожнику общество «культурной буржуазности»?
Но у старого Крамера, помимо склонности к торжественному провозглашению давно набивших оскомину речей, есть еще одна интересная для нас черта, нами уже мимоходом отмеченная и, по-видимому, более пригодная для аттестации его как борца с культурной буржуазностью.
Крамер, как мы уже говорили, одинок. Он не принадлежит к тем счастливым в своей сытой безыдейности художникам, которые готовы за соответственное вознаграждение изображать своей кистью все, что потребуется: всевозможные оголенности для солидных отцов семейства, нравоучительные картины для их детей, батальные – во время периодических приливов буржуазного шовинизма, религиозные – в момент припадков буржуазного ханжества. Нет, старый Крамер на это неспособен! К «толпе», в которую он включает и буржуазию, он относится с аристократическим презрением. «Лучшим, – говорит он, – приходится стоять в стороне». «Место, на котором ты стоишь, священная земля! – вот что нужно говорить себе, работая. Вы, другие, оставайтесь извне, понимаете? Там довольно места для ярмарочной суеты. Искусство – религия». «Все особенное, истинное, глубокое и сильное родится только в уединении. Истинный художник всегда бывает отшельником». (Курсив мой. Л. Т.) Таков символ веры Михаила Крамера, как художника. Не здесь ли, в сфере искусства, развертывается его борьба со всепроникающим духом буржуазности?
Но, прежде всего, каково происхождение крамеровского символа веры? Каким образом искусство, категория чисто общественная, стремится в лице Крамера эмансипироваться от общества, давшего ему жизнь?
Чистое «искусство» овладевало полем в результате весьма разнообразных социально-исторических условий, но та формация его, к которой должен быть отнесен Крамер, выросла на почве разочарования умственной аристократии в результатах буржуазного господства.
Интеллигенция, связанная в период рождения буржуазного общества идейными узами с буржуазией, впоследствии лучшей своей частью отшатнулась от нее. Но и на всем остальном социальном поле она не могла с отрадой и упованием остановить свои глаза: классы, антагонистические буржуазии, были слишком некультурны, слишком далеки от искусства, науки, философии, чтоб интеллигенция могла слить с их историческими судьбами свои собственные. Оставалось одно: уйти от «ярмарочной суеты», замкнуться в сфере «чистого» искусства. Конечно, это тоже протест против всеопошляющей культурной буржуазности, но не осужден ли он на совершенное бесплодие?
Всем этим «отшельникам» искусства необходимы ведь средства существования, которые могут к ним поступать только из так называемых фондов «национальной прибавочной стоимости», а этими фондами бесконтрольно распоряжается буржуазия.
Весь трагизм положения Крамеров в том и состоит, что, презирая буржуазию, они в то же время должны подчиняться требованиям ее рынка. Пошлое безыдейное мещанство косвенно и прямо навязывает им свои вкусы, и от подчинения мещанству им нельзя уйти, ибо исторические судьбы туго притянули этих жрецов «чистого искусства» к буржуазии мертвой петлей экономической зависимости.
Слушайте, что говорит Лохман Михалине при виде группы кутящих бонвиванов: «И хоть бы ты полетела на крыльях утренней зари, ты не уйдешь от людей этого сорта… Боже! Как хорошо все это началось! А теперь толчешь воду для этих господ. Нет ни одной вещи, о которой бы мы думали так же, как они. Все неприкрытое, чистое, свергается в грязь. Самые скверные тряпки, самая грязная оболочка, самые жалкие лохмотья объявлены святыми. А наш брат должен молчать и лезть вон из кожи для этой сволочи!».