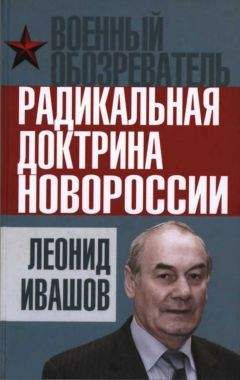Лев Троцкий - Проблемы культуры. Культура старого мира
В этом отношении г. Бальмонт является верным носителем декадентского идеала, который состоит в полной эмансипации каждой строки от всей пьесы, отдельного слова – от целой строки и, наконец, всего вместе – от здравого смысла, который, согласно теории декаданса[117], способен лишь приковать железными цепями поэтические крылья к прозаической земле.
Раз строка представляет собой совершенно самостоятельную пьесу, ни в какой связи с предшествующими и последующими не состоящую, то почему, в самом деле, не читать этих пьес в любом порядке? И отсюда уже один, хотя все-таки смелый шаг до того, чтобы напечатать эти шестнадцать строк в виде шестнадцати самостоятельных стихотворений, вроде знаменитого «О! закрой свои бледные ноги!»[118] или менее известного «Эй, молодые орлы!».
Сумятица декадентской поэзии, как и все в человеческой жизни, имеет свой корень в общественных условиях. Я не могу тут вдаваться в детальный анализ зависимости «абсолютно свободного творчества» европейской «модерны» от условий современного социального бытия, но несколько слов все-таки замечу.
Представьте себе нервного, чуткого сына наших дней, с преобладанием в нем эмоциональной стороны над интеллектуальной, наделите его стремлением разобраться в окружающих явлениях, определить свое место среди них и свое к ним отношение, понять смысл этой сложной борьбы, торжества победителей, воплей побежденных, этих ненужных страданий, бесцельных жестокостей, наконец, этого счастья ценою чужих жизней.
Представьте себе кроме того, что этот самый сын наших дней не прирос ни к стану погибающих, ни к стану ликующих, так что его социальное положение не диктует ему властно определенных общественных симпатий и антипатий. У него закружится голова от бездны социальных противоречий и явится желание уйти от них куда-нибудь по ту сторону добра и зла и всех прочих человеческих условностей, отдаться всецело непосредственным ощущениям и чувствам, без всяких апелляций к контролю сознания, которое ведь уж обнаружило свое полное бессилие. Тут только и остается, значит, пустить свой поэтический челн по воле эмоциональных волн, выбросив разум, оказавшийся в качестве руля несостоятельным, на прозаический берег.
У сильных натур на этой почве разыгрывается жестокая душевная драма, а у дюжинного человека – фарс балаганного пошиба, ибо, не пережив ни страстного стремления разгадать мировые и социальные проблемы, ни мучительного раздвоения между обостренным чувством и рефлексией, неспособной свести концов с концами, может быть, даже не пытавшись разобраться в смысле окружающего, эта вторая категория декадентов уловила одну внешнюю черту: неразложимость, при современном состоянии гуманитарных наук, многих ощущений на строго причинные соотношения и невозможность их формулировки при помощи точной терминологии.
Таким образом, одни декаденты, не найдя смысла бытия, синтеза жизни, после мучительных поисков, другие, – не искав его, стали пропускать через свой поэтический аппарат жизнь по мелочам, в розницу, доводя этот процесс, первые – страдая, вторые – кривляясь, до полнейшего абсурда: чьи-то шаги, какие-то враги… вечные перемены и бесцветные стены…
Литература без синтеза, этот признак общественной усталости, вообще характеризует резко-переходные эпохи, к которым с полным правом может быть отнесено наше время.
Но далеко не вся литература добровольно соглашается жить без бога живого. Напротив, можно сказать, что никогда еще поэтическая, научная и философская мысль не стучалась с такой судорожной торопливостью во врата грядущего, никогда еще она не допытывалась с большей жадностью и – смею сказать с уверенностью – с большим успехом о будущих судьбах человеческого рода. Пусть гг. Булгаковы[119] самоуверенной рукой чертят на вратах этого будущего X, символ неизвестного, пусть, взгромоздившись на груды цитат и статистических материалов, самодовольно провозглашают «Ignorabimus»[120] (см. «Капитализм и земледелие»), – жизнь просто помелом выметет их из храма мысли, питающей передовые общественные группы, оставив лишь, и то временно, за этими двухвершковыми жрецами… присвоенное им по штату содержание.
Я попрошу тут мимоходом у читателя извинения, что по поводу беззаботно приплясывающего в такт и приседающего на рифмах г. Бальмонта позволил себе заговорить о смысле жизни, которого, повторяю, жадно ищет вся европейская мысль, – припомните хотя бы последний, начавший печататься в той же книжке «Жизни» роман «Труд» Э. Золя[121], давно растерявшего принципы «абсолютно-объективного натурализма».
Синтеза, синтеза! Такова основная тенденция и современной польской литературы, которую чрезвычайно талантливо охарактеризовала в общих чертах молодая талантливая писательница Л. Украинка в той же книжке названного журнала, в «Заметках о новейшей польской литературе».
Подчеркнутая в этой статье тенденция как нельзя лучше иллюстрируется напечатанными рядом мелкими очерками, вернее «стихотворениями в прозе», польского писателя Андрея Немоевского[122].
В первом из этих очерков Немоевский – самое задушевное желание которого формулировано в заключении «Писем безумного» следующими словами: «Пусть человечество будет счастливо… пусть прежде всего будет счастливо» – Немоевский ищет материала для синтеза, перебирает все группы польского общества, чтобы остановиться на какой-нибудь из них, как на носительнице всечеловеческих идеалов. Увы, поиски его тщетны!
Из заколдованного круга, в котором защемлен польский народ, «не выведут его ни его патриоты, ни его публицисты, ни его филантропы». «Веришь ли в какой-либо идейный оплот, – что скажет на это твой родитель?.. Хочешь ли втянуть в заговор своего брата, – он предлагает тебе стакан холодной воды и основание фабрики иголок в Белостоке… Твой народ? Это дикарь в кафтане. Работник? Послезавтра кончается таможенная война, и к чорту вашу промышленность! Интеллигенция? Приказчики или писатели, актеры, отставные служаки. За ними клуб кащеев, экономов, декламаторов о воспитании, банкротов с матерями»… («Жизнь» 1901, I, 127).
Дальше в общественном пессимизме идти некуда. Но основателен ли он? Точно ли все группы польского общества приговорены историей к лишению всех прав на будущее? Не вдаваясь, по многим причинам, в обсуждение этого вопроса, я все-таки не могу не закончить энергичным протестом против такого абсолютного общественного пессимизма, протестом, который, не по моей вине, должен остаться необоснованным.
«Восточное Обозрение» N 61, 18 марта 1901 г.
Л. Троцкий. ПОСЛЕДНЯЯ ДРАМА ГАУПТМАНА И КОММЕНТАРИИ К НЕЙ СТРУВЕ
Во второй книжке «Жизни» за текущий год помещен исключительно плохой перевод последней драмы Г. Гауптмана «Михаил Крамер». В первой книжке «Мира Божьего» напечатан претенциозный фельетон г. Струве «На разные темы», трактующий, между прочим, о той же драме. На этих двух, совершенно, разумеется, неравноценных литературных явлениях я позволю себе остановить внимание читателя.
Не умею сказать, чего собственно хочет в настоящую минуту г. Струве, и утешаюсь тем, что это и ему самому не вполне ясно, хотя он и повторяет гордые фразы о религии, религиозной мечте, религиозном сознании, тщетно пытаясь подогреть на углях мистицизма и идеалистической метафизики остатки своего общественного энтузиазма.
С уверенностью можно установить лишь то обстоятельство, что г. Струве[123] сходится с Шефле[124] в глубокомысленном определении социального вопроса «Sozialfrage ist Magenfrage» (социальный вопрос – вопрос желудка).
«Социальная борьба нашего времени задается освобождением человека от рабского подчинения материальным условиям его бытия, освобождением от голода, холода и всяческой нужды. Если в этом счастье, – продолжает он с ноткой очевидного сомнения, – то, конечно, социальная борьба есть борьба за счастье. Те условия, которые мы объединяем под названием „довольство“, – говорит г. Струве далее, – безусловно необходимы как средство для дальнейшего подъема человека и человечества; буржуазность начинается лишь там, где это средство становится объектом культа, превращается в верховную цель и в высшую ценность, словом, заполняет религиозное сознание людей. К сожалению, эта культурная буржуазность составляет самую характерную особенность, как бы духовную сущность современного человека… Ею одинаково поражены как удовлетворенные, так и неудовлетворенные современностью. И этим последним нужно напоминать, что довольство есть средство, а не цель, что цель лежит дальше, гораздо дальше»… («Мир Божий», I, 14.)
В этом, с виду весьма приличном, рассуждении сконцентрировано столько разносторонней фальши, что затрудняешься, с какой стороны к нему подступить.