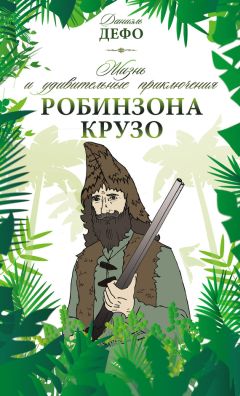Один и ОК. Как мы учимся быть сами по себе - Шрайбер Даниэль
Неужели я слишком горд, чтобы признаться себе: жизнь в одиночестве дается мне гораздо труднее, чем кажется? Что, если я страдаю от этого больше, чем признаю, и на самом деле хочу чего-то другого? Другими словами, не гордость ли мешает мне признать, что иногда я чувствую себя одиноким?
В очередной раз перелистывая любимые книги, я натыкаюсь на подчеркнутые места. «Сейчас ему кажется, что он в большей степени пишет без прикрытия… Он признает это без самодовольства, каким нередко сопровождаются декларации независимости, и без показной печали, с какой признаются в своем одиночестве» [20]. Это цитата из автобиографической книги Ролана Барта. Подчеркнул я эту фразу, видимо, уже давно, однако такое ощущение, будто читаю ее впервые.
В размышлениях Мэгги Нельсон о конце любовного романа и силе притяжения синего цвета мне попадается следующее предложение, выделенное бледным неоново-розовым: «Я пытаюсь, и уже давно, найти достоинство в одиночестве. Мне дается это с трудом» [21]. Рядом с выделенным фрагментом стоят три восклицательных знака. Похоже, когда-то я увидел себя в лаконичной мысли Нельсон. Так ли это сейчас?
И, наконец, обратившись к эссе Маргерит Дюрас «Писать» об одиночестве писателей, нахожу следующий пассаж: «Оказываясь один, тут же погружаешься в неразумие. Вот во что я верю: человек, предоставленный самому себе, всегда отмечен безумием, поскольку ничто не защищает его от приступа собственного бреда» [22]. Когда я читаю эти строки, мое сердце бьется чуть быстрее. Непроизвольные волны узнавания, бьющиеся о толщу сопротивления. Сохранять самообладание, смотреть вперед.
Если честно, мне не хотелось ехать в Швейцарию. Один из отелей в Люцерне пригласил меня на трехнедельную резиденцию. Немного подумав, я согласился. Мне нужно было время для письма, я еще не бывал в окрестностях Люцернского озера, а сама идея вырваться из серого берлинского января казалась благодатной. Но теперь мне уже не было до этого дела. Мне не хотелось ни встречаться с людьми, ни даже выходить из квартиры.
Идея резиденции привлекла меня еще и потому, что несколькими месяцами ранее я прочитал роман Аниты Брукнер «Отель “У озера”», очень мне полюбившийся. Мой друг-британец испытывал похожие чувства, и мы не уставали обсуждать эту книгу начала восьмидесятых. Эдит Хоуп, автора любовных романов из Лондона, друзья на неопределенный срок отправляют в элегантный старомодный отель на озере Леман, чтобы помочь покончить с рискованной и непристойной связью с женатым мужчиной. В центре этой удивительной книги, перечеркивающей привычные романтические нарративы, стоит осмысление героиней своего социального статуса одинокой женщины на пороге сорокалетия. Не могу объяснить, почему меня, гомосексуала, так впечатлил этот роман. Возможно, потому, что, обладая столь мрачной сердцевиной, он с невероятно тонким юмором обыгрывает многослойность изоляции от общества, основанного на институте брака. Вопреки всем проявлениям слабости и печали, Эдит – чрезвычайно сильный человек. Она в итоге создает собственное пространство в обществе, где ей было уготовано лишь тесное местечко. Меня это вдохновило. И я все время думал о жизни Эдит в элегантном отеле, о большом швейцарском озере и о заснеженных горах на горизонте.
Мне всегда нравилась Швейцария. Один-два раза в год я бываю в Цюрихе по работе. В Женеве я написал несколько глав второй книги. Одно лето я провел в Лозанне с Давидом, моим бывшим спутником жизни. Другой мужчина пару лет спустя пригласил меня в Санкт-Мориц, где мы пробирались по снегу на ужин в дом коллекционера, в гостиной которого висела самая большая картина Баския, которую я когда-либо видел. В Базеле я писал о художественной ярмарке, а в Вале – выступал на литературном фестивале.
Иногда эта страна казалась мне воплощением рекламных обещаний, завораживавших меня по телевизору в детстве, которое пришлось на восьмидесятые. Все такое чистое и в достаточной мере прогрессивное, все излучает упорядоченный лоск благосостояния. Так мне казалось, хоть я и понимал, что поддаюсь совершенно недопустимой идеализации.
Надо было учитывать, что в это время года я редко бываю здоров и куда-то ехать мне будет тяжело. За несколько недель до поездки вернулось чувство, которое регулярно настигает меня к концу года. Оно возникает, когда дни становятся настолько короткими, что приходится вставать из-за рабочего стола не позднее трех часов дня, стремясь успеть получить хоть небольшую порцию света во время прогулки в парке. Когда зима заявляет о себе, приближается мой день рождения незадолго до Рождества, а затем наступают и сам сочельник, и новый год, и нескончаемые месяцы темноты. В это время я особенно остро сознаю, что живу один.
Это чувство начинается со смутного ощущения, некоего беспокойства, желания чего-то, к чему я затрудняюсь подобрать слова. Когда оно наступает, я работаю еще больше, гуляю по городу дольше обычного, чаще хожу на концерты, балет или в кино, принимаюсь за толстый роман, который не дочитываю, ищу идеальные подарки крестникам на Рождество, варю джем из апельсинов, мандаринов или лимонов Мейера, чтобы потом раздать его, пеку панеттоне и штоллены для друзей и сам съедаю больше, чем хотел. Уже несколько лет подряд я в преддверии Рождества ставлю елку и обвешиваю ее сверкающими шарами и украшениями до тех пор, пока она не становится похожа на какой-нибудь роскошный парижский наряд с полотен Джона Сингера Сарджента или Джеймса Тиссо. Сегодня мои елочные игрушки пылятся в кладовке.
Иногда эта повышенная активность помогает, а иногда приобретает навязчивый, маниакальный характер и грозит обернуться психическим состоянием, которое само по себе еще не депрессивное, но может инициировать депрессию и, если не быть начеку, подчинить себе всю мою жизнь на недели и даже месяцы. На этом этапе все вдруг кажется зыбким. Самообман, державший меня на плаву целый год, рушится. Сознательное забвение, на котором строится жизнь большинства из нас, дает сбой. Не могу описать это лучше. Похоже на потерю важной фантазии. Перестаешь верить, что жизнь, которую ты проживаешь один, – хорошая жизнь.
Эта фантазия о хорошей жизни – не индивидуальная фантазия. Это коллективный конструкт, разделяемый многими из нас, фикция, которую раз за разом ставят и исполняют в обществе: это делаем и мы сами, и люди, которых мы любим. Даже если сознательно от нее отстраняться, каждый день будешь находить оставленные ею следы в душе. Часть этой фикции – сложный фантазм благосостояния, а именно вера в то, что мы сможем хорошо зарабатывать своим трудом и что, приложив необходимые усилия, каждый из нас достигнет определенного благополучия. Среди других аспектов – отлаженные любовные отношения и создание семьи; зачастую они имеют еще больший вес, не в последнюю очередь потому, что реже подвергаются сомнению, более естественно входя в генетику социальной жизни.
Этот фантазийный конструкт хорошей жизни – обещание, за которое мы цепляемся, несмотря на массу доказательств его невыполнимости для многих. Американская философ Лорен Берлант полагает, что оно лишь ставит преграды на пути большого количества людей, поскольку в современном обществе такая жизнь зачастую просто невозможна. Берлант назвала это явление характерным для нашего времени «жестоким оптимизмом» [23]. Иногда повседневная жизнь напоминает тренинг по выживанию, который уже не позволяет реалистично планировать будущее. Нам остается лишь фантазировать о нем [24]. Это не патология, а адекватная реакция на мир, которая делает сносной жизнь, постоянно сталкивающую нас с противоречиями, трудностями и амбивалентностью [25].