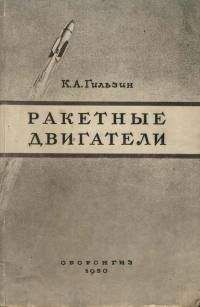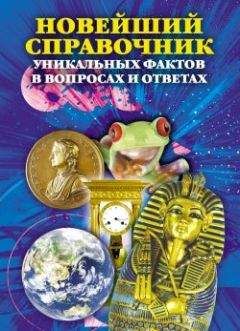Юрий Колкер - Итоговая автобиография
5
Ходасевича я открыл для себя в 1972 году, Боратынского — несколько позже. Оба идеально отвечали моей новой эстетической установке, а из современников — никто до конца не отвечал. Ходасевич был полузапретен. Его Тяжелую лиру мне пришлось переписывать от руки в Публичке. Закончив эту упоительную и захватывающую работу, я с удивлением увидел, что помню все стихи наизусть: с такою силой они были пережиты. До начала 1980 года я знал только эти стихи Ходасевича и почти ничего — о нем.
В 1979 году, едва дела у Тани пошли на поправку (вместо костылей она смогла опираться на палку и выходить из дому), я, тоже в Публичке, прочел с выписками книгу (диссертацию) норвежца Гейра Хетсо о Боратынском, нигде более в те времена не доступную. Вот еще одна из гримас русского большевизма: нельзя было сказать «народу» правду о детском проступке Боратынского; оттого и Хетсо под спудом держали. Любовь к Боратынскому пережила во мне даже любовь к Ходасевичу. По сей день не устаю изумляться тому, что Россия не прочла своего второго по значению поэта.
В декабре 1979 года началась афганская война, и я сказал себе: хватит; ни с этим режимом, ни с этим потерявшим стыд «народом» я не хочу иметь ничего общего. На площадь выходить бессмысленно; взять билет в Вену нельзя; можно и должно — постараться продать свою жизнь подороже, порвать с мещанской советской добропорядочностью, чтобы хоть перед собою частично оправдаться.
За выездную визу в ту пору приходилось бороться. Как раз с 1980 года власти стали требовать «прямого родства», приглашения от родителей, братьев или сестер. У нас — все «прямые» были в Ленинграде. Четыре месяца ушло только на то, чтобы подать заявление на выезд и «сесть в отказ» (что сразу не выпустят, было ясно; в народе говорили: «раньше сядешь — раньше выедешь»). Я обивал пороги, жаловался, просил. Потребовалось письмо на высочайшее имя (в ту пору первым лицом России был маразматик Брежнев). Что было пережито, сегодняшним не объяснишь. Какие справки требовались! Например, о жилищных условиях сестры. Процедура была рассчитана на унижение и запугивание. Опускаю детали, но одно отмечу: люди, собиравшие чемоданы, становились предателями в глазах не одной только подлой и пошлой власти, но — в глазах окружающих: в глазах народа. Всё перевернули в России две революции: петровская и большевистская, — одно устояло, закрепилось в сознании: закон 1649 года из Соборного уложения Алексея Михайловича, объявлявший эмигранта изменником. Тут — московитское средневековье было свеженьким и румяным, выражало самую душу «народа». Непостижимым образом оно передавалось и самим потенциальным эмигрантам. В России жить нельзя, но — «как жить без России?» На устах у меня были веселые присказки: «Лучше жить в Майями, чем в помойной яме»; «Через четыре года здесь будет голый зад» и т. п., но приступы ностальгии случались тяжелейшие. Зато после пересечения границы — классической ностальгии мы так и не вкусили. Тут Маркс не оплошал: у пролетария нет родины.
В январе 1980 года я бросился в омут: уволился из программистов при бабе Яге и стал искать черную работу. Зачем? Затем, что я становился прокаженным. Нельзя было из ОВИРа вернуться на рабочее место. Люди с более крепкими нервами могли, а я не мог. Как смотреть в глаза начальнику, неплохо ко мне относившемуся? Я подводил его — и вообще всех. Сперва подам на выезд (сказал я себе), а потом наймусь куда-нибудь сторожем. Подать сразу не удалось, а кормиться нужно было. С марта 1980 я устроился в кочегарки, где и проработал четыре года: сначала сменным мастером, затем оператором газовых котельных.
Надвигалась московская олимпиада 1980 года; КГБ готовился к ней; несколько ленинградцев из числа видных правозащитников (например, физик Юрий Меклер) были высланы из страны против их воли; меня — 16 апреля 1980 вызвали для «беседы» по месту бывшей работы (в бухгалтерию, под предлогом недоплаты). Я был мелкой сошкой: мне пригрозили статьей 190(1) за стихи, ходившие по рукам. О том, как я мал, свидетельствует ошибка литературоведов в штатском: они, мне кажется, явились в СевНИИГиМ, не зная, что я там уже не работаю (да и в лицо меня не знали). От меня потребовали не разглашать беседы; я не подписал требования и сразу по выходе из СевНИИГиМа сообщил о ней в Хронику текущих событий; естественно, друзьям и знакомым тоже рассказывал. Я не герой по натуре, но моя нравственная позиция — моя несомненная, невыдуманная правда в союзе с моими скромными притязаниями — помогла мне преодолеть робость, а под конец стала так сильна, что, загнанный в угол, у последней черты, я вовсе потерял всякий страх.
Оказавшись в кочегарках, я стал печататься в тогдашних машинописных журналах, главным образом — в Часах; этот журнал делался сперва в соседней кочегарке, потом прямо в той, где я сидел у котлов. Полуподпольная литературная среда в Ленинграде была единой (в отличие от Москвы, где имелось несколько не пересекавшихся кругов). Многие из непризнанных авторов работали в кочегарках. Мое место в этой среде оказалось неудобным: будучи консерватором, я не был заодно с христианами, твердившими о возрождении православной России; будучи противником пошлой советской эстетики, я выступал против авангарда. Независимость моей позиции многих раздражала.
Затевая отъезд, мы с Таней мечтали об Австралии: подальше от большевиков. Верилось, что туда они при нашей жизни не дотянутся. Что вообще дотянутся, в этом никто не сомневался. Большевизм казался несокрушимым — и народным. В качестве парадокса я тогда твердил, что большевизм и есть русская демократия; путинская Россия показала, что никакого парадокса тут не было. Однако первое же соприкосновение с отказницкими кругами привело нас к мысли, что проехать мимо Израиля стыдно; тысячи людей поколениями сидели на чемоданах с мечтою о нем. Явилась необходимость переходить из русских в евреи: момент мучительный, ностальгический в уже обозначенном мною смысле; мечту о небесной (очищенной от большевиков) России приходилось совмещать в сердце с мечтой о небесном Иерусалиме, прекрасной, но с молоком матери не впитанной. Я начал ходить на квартирные лекции по еврейской культуре; записался на домашние курсы иврита. В литературном полуподполье, в среде кочегаривших писателей, это не нравилось, воспринималось как отступничество, как измена русскому делу. Последующая жизнь показала, что я так и останусь между двух стульев; еврейское дело тоже моим не стало; но минус на минус даёт плюс — и я пребываю в надежде, что две измены равны одной верности.
В 1981 году мои стихи самотеком опубликовал парижский журнал Континент, в 1982 году — парижская газета Русская мысль (о второй публикации я не знал). «Публикация на Западе», вещь по сути своей пустяковая, совершенно меняла тогда положение и состояние счастливчика. На миру и смерть красна. В кочегарках, впервые с детских лет, я почувствовал себя свободным. Телефон в нашей коммуналке прослушивался — я совершенно перестал с этим считаться, говорил, в том числе и с заграницей, открыто, выражений не выбирая.
В том же 1981 году я начал готовить собрание стихов Владислава Ходасевича — сперва для себя, потом для издания в Париже. Началось с пустяка: А. В. Кобак, с которым я кочегарил, попросил меня провести что-то вроде домашнего семинара у него на квартире: рассказать его друзьям и знакомым о Ходасевиче, а заодно и прояснить, отчего я с таким жаром отстаиваю консервативную эстетику. Я отправился в Публичку, кое-как подготовился; что-то рассказал, почитал стихи. Слушателей было человек шесть. Затем от Часов через того же Кобака пришло предложение написать о Ходасевиче. Тут я взялся за дело всерьез и написал большую статью под названием Айдесская прохлада. Это были счастливейшие месяцы: впервые я получил возможность, забыв о себе, систематически выговорить перед заинтересованными читателями мою литературную позицию на примере любимого поэта. Статья удалась; ее читают до сих пор; на нее ссылаются. Это был первый обстоятельный очерк жизни и творчества поэта. В 1986 году московский литературовед, профессор Ю.И. Левин начал свою статью о Ходасевиче так: «Владислав Ходасевич — белое пятно на карте отечественного литературоведения. Несколькими проницательными статьями (А. Белого, В. Набокова, Ю. Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли...» (Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 17). В Израиле (я к тому времени был в Израиле) это произвело впечатление, но мне голову не вскружило — потому что я метил выше.
В 1982 году евреи-отказники затеяли общество по изучению еврейской культуры (ЛОЕК). Несмотря на его полную законность, власть общество запретила. Собирались подписи; писались протесты в Москву и на Запад; антисемитская природа режима предстала перед всем миром как на блюдечке; бездарная власть не понимала азов, не чувствовала своей собственной выгоды, пилила сук, на котором сидела.