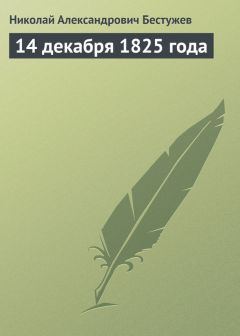Николай Добролюбов - Любопытный пассаж в истории русской словесности
Если бы дело гг. Перозио и Смирнова решилось тем, что они оба правы, а виноваты все присутствующие, – это не столько бы поразило публику, как внезапное прекращение заседания. Началось общее смятение; одни отчаянно пожимали плечами, другие как-то съежились и опустились…
Некоторые пришли тотчас к заключению, что штука эта еще на десять лет отдалила у нас гласное судопроизводство! Даже г. Ламанский, конечно{6}, допустивши себя увлечься минутным раздражением, объявил, будто сегодняшнее заседание показывает, что «мы еще не созрели для этой формы судопроизводства»{7}. Если он это чувствовал сам – ибо не мог сохранить полного спокойствия и ровного присутствия духа, – то он в своем сознании совершенно прав со своей стороны; но он неправ, перенося это сознание на публику. Публика желала, требовала, даже просила продолжения заседания; гг. посредники г. Перозио не могли уйти против воли председателя; он мог и должен был удержать их во что бы то ни стало или по крайней мере закончить дело спокойно и беспристрастно, не давая г. Серно-Соловьевичу разглагольствовать о достоинстве суперарбитра и пр. и не давая г. Полетике разгорячаться пред самым концом дела… И если г. Полетика прежде всех сделался виноватым в нарушении заседания, то г. Ламанский после всех остается в нем виновным.
Впрочем, собственно говоря, тут никто не виноват, кроме тех, которые хотели здесь видеть что-нибудь более, чем стилистические упражнения, вроде бывавших в старые годы семинарских диспутов. Не всякий спор в присутствии большого общества может быть назван гласным судопроизводством, так же как не всякое обсуждение статьи, трактующей об акционерной компании, – рассуждением о делах этой компании. Некоторые из участвовавших в деле действительно с большим ожесточением трубили о том, что вот, дескать, они затевают первый опыт гласного судопроизводства в России. Но они, очевидно, и понятия-то о нем не имели, и не пошли дальше названия. Они же сами не раз повторяли в заседании, что пришли решать арифметические задачи… по большинству-то голосов: какое милое понятие о назначении гласного суда! Как сильно выразилась тут русская привычка к тому, чтобы произвол личный становился выше непреложных начал логики и даже арифметики!.. Но, впрочем, в заседании голосов не собирали и чрез то нарушили форму, которой так неуклонно старались держаться в других пунктах. Да и как было собирать голоса, когда посредники, долженствовавшие быть судьями дела, внезапно, к великому удивлению публики, оказались адвокатами. В самых рассуждениях с начала до конца господствовала удивительная неопределенность, и вследствие того – когда одна сторона начинала речь про Фому, другая отвечала ей непременно про Ерему. И ни в посредниках, ни даже в самом суперарбитре мы не нашли полного приготовления к прямому ведению спора; в некоторых из посредников незаметно было даже вовсе никакого приготовления. Оттого вместо дельных замечаний, которые могли бы быть полезны для акционеров, мы слышали здесь словоизлития по поводу того, оговорено или не оговорено в статье такое-то замечание, каким шрифтом напечатана такая-то фраза, и т. п. На улики о том, что нет такой-то цифры в таком-то месте «Отчета», мы слышали от оратора-адвоката ответы вроде того, что, «может быть, эта цифра причтена где-нибудь в другом месте!!.» Вместо сравнения выводов и указания реальных оснований их нам писали на доске ряды слагаемых и вычитаемых цифр (заранее известных) и пред нами же делали сложение и вычитание, да и то очень вяло… Очевидно, что тут не было ничего даже похожего на настоящее гласное судопроизводство, и вся эта комедия производилась просто для того, что г. Смирнов хотел собрать как можно более свидетелей того, как он подвергает г. Перозио экзамену из арифметики… А г. Перозио до того потерялся, что счел для себя удобным подвергнуться такому экзамену и думал, что ему будет большая честь, если он отличится из арифметики. Вот к чему сводится весь вопрос…
Нет, чистое дело может быть прочно и хорошо сделано только чистыми руками. Тут нечего ждать хорошего, когда двигателями являются задетые самолюбия да хлопотливые желания отличиться. Г-н Перозио вздумал раскрыть положение дел Общества русского пароходства и торговли; но он не сохранил достаточно чистоты и беспристрастия в своих заметках, он не дал себе труда вникнуть не в одни цифры отчетов, а в самый ход дела, на практике, – и оттого его замечания не достигли цели, которой должны были достигнуть… Г-н Перозио потребовал гласного судопроизводства; г. Смирнов, принимая его вызов, третировал его чрезвычайно оскорбительно и соглашался спорить совсем не о том, о чем хотел говорить г. Перозио. Казалось бы – тут и конец, тут и невозможность соглашения. Но ни оба противника, ни их посредники, ни сам суперарбитр не заметили, или не хотели заметить, этой вопиющей нелепости в самом начале дела. Все торопились устроить дело, и никто, по-видимому, не задал взаимно друг другу простого вопроса: что же это будет, в самом деле, – школьный экзамен или деловой спор? По крайней мере в заседании мы видели, что посредники обоих сторон совершенно противоположно понимали сущность спора… Суперарбитр старался выказать возможное беспристрастие; но нельзя же было не заметить, что его взгляды – более литературные, нежели деловые. Мудрено ли же, что заседание прекратилось при репетиловских возгласах:
Литературное здесь дело!
Оно, вот видишь, не созрело…
Нельзя же вдруг… {8}
И Репетиловы важно утверждают, что тут, в самом деле, главное – вопрос литературный; но что еще для решения его не все созрело… Да и как им не утверждать? Сам председатель собрания сказал, что мы не созрели, и пр. И многие верят на слово недозрелым Репетиловым, и – или приходят в благородное негодование, или ощущают тайную радость… А между тем вовсе нет: созрело все, и все можно вдруг, если вдруг и дружно приняться да определить ясно и твердо, – чего хочешь и к чему идешь… Только одно условие, один девиз: «Меньше слов, больше дела!» Нас ведь только то и губит теперь —
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела…{9}
Обещает нам кто-нибудь белую корову подарить, – мы уж и чаю не пьем, в ожидании, что вот сейчас подадут нам сливок от этой коровы. Напишет кто-нибудь статейку о судопроизводстве или об акционерном обществе, – мы так и ждем, что вот воцарится правосудие, вот акции поднимутся и нам в следующем общем собрании огромный дивиденд выдадут. И человека, написавшего статейку, мы уже считаем обогатившим и спасшим нас, и уже без него не может обойтись никакое серьезное начинание… А между тем – и в судах и в компаниях все идет себе как и шло… А мы всё продолжаем верить и восхищаться – и все на слово… Вот отчего и пошла ведь теперь в ход эта особенного сорта литература, которая рядится в цифры и технические термины и перемешивает их с громкими фразами, а до дела все-таки не добирается… Мы довольствуемся этими цифрами, терминами и фразами, и вот почему дело у нас подвигается так медленно, вот почему всякий дельный разговор немедленно переходит у нас на общие места, всякое суждение о гласно заявленном факте оказывается критикою не самого факта, а только способа его заявления… Кто в этом виноват? Объяснить это довольно трудно – не потому, чтобы вещь была очень мудреная, а потому, что многие могут обидеться нашими словами, принявши их на свой счет… Но, впрочем, – пусть их принимают, если им это нравится; мы, собственно, никого лично не хотим оскорблять, а напраслину терпеть от литературных собратий нам уж не привыкать стать. Итак, попробуем объяснить, в чем дело.
Литература теперь в моде. В каждом новом предприятии промышленном, в каждой экспедиции, в каждом новом учреждении – литератор так же необходим, как бывал в прежние времена необходим генерал со звездой на московской купеческой свадьбе. Нас это очень радует; это добрый знак для литературы, а следовательно, и для образованности. Но такое новое отношение к обществу налагает на литераторов и новые обязанности. Прежде они могли довольствоваться фразами и дивить публику изяществом слога; теперь они должны понять, что от них не этого ждут. Литература становится элементом общественного развития; от нее требуют, чтобы она была не только языком, но очами и ушами общественного организма. В ней должны отражаться, группироваться и представляться в стройной совокупности все явления жизни. И именно с жизнью, с делом, с фактом должен иметь прямое отношение каждый, кто хочет выступить ныне в публику в качестве литератора… К сожалению, немногие понимают это; большая часть полагает, что достаточно одних внешних форм для того, чтобы вести дело литературным образом. И вот подобные-то господа, постоянно оказываясь негодными на деле, унижают собою литературу, бросают на нее тень подозрения и делают то, что общий вид литературных явлений за известный период представляется наконец смешным всякому здравомыслящему человеку, а для человека злонамеренного дает повод провозгласить его даже гибельным и опасным. Не потому у нас все так плохо начинается, чтобы не было людей истинно дельных и живых; но потому, что большинство общества, даже литературного, до сих пор еще бросается на громкие фразы, благоговеет перед цитатами и цифрами, не разбирая их, и постоянно вверяется тем, кто громче и самоуверенней говорит… А эти-то люди и оказываются пустыми крикунами, мертвыми формалистами, литературными чиновниками, неспособными не только прочно основать какое-нибудь дело, но даже начать его без нелепости… Люди же серьезные обыкновенно сидят в углу и делают какую-нибудь незаметнейшую работу… Отчего они равнодушно смотрят на проделки разных посредственностей, выдающих себя за передовых людей, трубящих о своих подвигах, берущихся за все очень рьяно, но портящих будущность всякого дела, за которое берутся; отчего эти серьезные люди сами не становятся сразу во главе передового движения, – это уж надобно объяснять болезненно развитым в них самолюбием: они настолько самолюбивы, что не хотят браться за дело, которое можно сделать только вполовину, и настолько умны, что не могут уверить себя в возможности сейчас же сделать его вполне… Разумеется, это нехорошо, потому что другие и вполовину-то не делают, а только портят. Но что же делать? Этого уж не переделаешь.