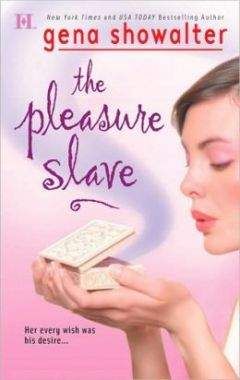Владимир Жаботинский - СAUSERIES Правда об острове Тристан да Рунья
— Однако, любопытно, после всего, послушать, что вы скажете, напримъръ, объ этомъ самомъ «Бъжимъ, спъшимъ». Должно быть, на вашъ вкусъ и это — жемчужина изъ шедевровъ?
— Вовсе не жемчужина и не шедевръ. Но съ другой стороны…
— Ахъ, наконецъ то! Говорите, я жду.
— Пожалуйста. Защитникъ этого марша сказалъ бы вамъ, что опера есть прежде всего музыка. Всъ ситуации должны иллюстрироваться звуками. Идея опасности, тревоги, бъгства должна тоже получить музыкальную иллюстрашю. Если артистъ, увидя вдали погоню, моментально покажетъ спину публикъ и убъжитъ за кулисы, — это, возможно, и будетъ реальнъе. Но при чемъ тутъ опера, при чемъ тутъ музыка? Въ оперъ нуженъ не реализмъ физическихъ движешй, а музыкальная исповъдь души, охваченной настроетемъ ужаса, надвигающейся гибели, бъгства. Всякое цельное состояние души имъетъ свою пъсенку? Бъгство тоже. Надо эту пъсню уловить и показать. Надо передать звуками все стадии бъгства; первое рождение тревоги, ея наростание, моментъ, когда ужасъ всецъло воцаряется въ душъ, вытъсняя изъ нея все остальное, и, наконецъ, бъшеную скачку по горамъ и доламъ, гдъ погоня тебя вотъ вотъ настигаетъ. Это есть задача оперы, это долженъ дать намъ и композиторъ, и пъвецъ — а потому онъ обязательно долженъ пъть это передъ рампой, а не показывать публикъ пятки. У оперы свой особенный реализмъ. Онъ заключается въ томъ, чтобы музыка была правдива, лилась изъ души, а вовсе не въ томъ, чтобы на сценъ почесывали затылокъ не хуже, чемъ въ жизни.
— Браво! Защита ваша звучитъ весьма убежденно. Въ общемъ итоге вижу, что я былъ правъ: вы — поклонникъ «Вампуки» и хотите, чтобы мы съ трескомъ возстановили ее во всъхъ правахъ на сценъ лучшаго нашего театра.
— Такъ радикально я вопросъ не ставлю. Но въ одномъ вы правы: да, я считаю, что «Вампука» еще не умерла. Вся арии, такъ сказать, еще не до конца допеты. Какъ бы не повторилось съ этой погоней за «жизненностью» въ музыке то, чъмъ на нашихъ глазахъ заканчивается погоня за «жизненностью» въ драме. Постановки Художественнаго театра съ ихъ колыхающимися занавъсками — это ведь еще не самое последнее слово въ области техники. Еще дальше пошли берлинцы: тамъ, говорятъ, начали въ одномъ театръ ставить пьесы совсъмъ безъ декораций. Вернулись къ временамъ Шекспира. Увидели, что надули самихъ себя нельзя, что сцена не можетъ дать иллюзии жизни, и порешили махнуть рукой и вернуться къ честнымъ временамъ Шекспира, когда никто никого и не думалъ надувать, и на сцену смотръли просто, какъ на подмостки для той единственной силы, которой дана власть творить иллюзию — для таланта. Я еще не уверенъ, что тъмъ же пассажемъ не кончится эволюция оперы. Увидятъ, что всъ эти ухищрения, всъ эти потуги сделать изъ музыки нъчто большее, чъмъ просто музыка, что все это суета суетъ, напрасная трата силъ, и затоскуютъ по доброй, старой честной Вампукъ, которая не мудрила, не умничала, а пъла — пъла, дай ей Богъ здоровья и счастья за каждую трель, пъла, какъ соловей, пъла, какъ сорокъ тысячъ Зигфридовъ пъть не могутъ…
СОЛЬВЕЙГЪ
По воскресеньямъ иногда къ хозяйкъ приходить племянница; мужъ ея — солдатъ, она служить бонной въ Кенсингтоне и получаетъ выходной день разъ въ две недели. У хозяйки внизу маленькая гостиная, и тамъ стоитъ фортепиано; племянница играетъ слабо, но настойчиво, иногда упражнения, а иногда что-нибудь такое, что играютъ къ кинематографе. Въ последнее воскресенье, приотворивъ свою дверь, я сверху услышалъ, какъ она разбирала первые такты чего-то знакомаго. Песня Сольвейгъ? Очевидно. Я захлопнулъ дверь. Въ Европъ не осталось, кажется, ни одного разстроеннаго пианино, изъ котораго не исторгалась бы хоть разъ въ недълю песня Сольвейгъ; мы даже какъ-то спорили съ однимъ приятелемъ, что больше надоело, — пъсня Сольвейгъ или Тiррегагу; но я не думалъ, что она проникла даже въ нашъ древний переулокъ, забытый Богомъ, и что ее можно такъ плохо играть. Я захлопнулъ дверь, — она у меня толстая.
"Быть можетъ, пройдетъ и зима, и весна,
и потомъ лето за ними, и весь годъ;
но когда-нибудь ты вернешься, — я это знаю навърно;
и я буду ждать, потому что я такъ объщала на прощанье.
Пусть сохранить тебя Богъ, гдъ бы ты ни скитался на свътъ;
пусть помилуетъ тебя, если ты стоишь у подножия Его.
Здъсь я буду ждать, пока ты не вернешься;
а если ты ждешь меня наверху, мы встретимся тамъ, мой другь".
Хорошия слова, настоящия. Новалисъ говорилъ о стиле Гете: einfach, liett und dauerhaft. Любопытно, что та же похвала, точь въ точь, встречается у Толстого по другому поводу: у Нехлюдова всъ вещицы туалета отличаются свойствами дорогихъ вещей, — он-в «изящныя, прочныя и незамътныя». Вероятно, это и есть высшая похвала на свътъ. Ибсенъ ее честно заслужилъ въ этихъ восьми строчкахъ безъ размера. Хороша ли музыка Грига, я ужъ не въ состоянии судить. Когда то она была очень трогательна, но теперь она каждому человъку напоминаетъ сразу всъхъ его кузинъ. Слава Богу, что словъ Ибсена почти никто не помнить, иначе и они бы уже надоели.
Какъ несправедливо устроенъ нашъ внутреншй миръ, что лучшия вещи, — образы, звуки, идеи, — по мъръ популяризации теряютъ для насъ свою ценность. Это недемократично. Мы требуемъ просвъщешя для всъхъ, мы мечтаемъ о времени, когда вкусъ массы будетъ въ среднемъ такъ же утонченъ, какъ теперь вкусъ интеллигенции но когда мы достигнемъ этого идеала, авторы откажутся писать, композиторы и художники забастуютъ. Ибо сложнъйцпя симфонш моментально будутъ включаться въ музыкальную программу кинематографа и ресторана, и публика — публика будетъ подпъвать! Въ каждой цырюльнъ будутъ красоваться слепки съ Родэновъ того времени, и на столь, для развлечения гг. клиентовъ, ожидающихъ очереди бриться, въ живописномъ безпорядкъ будутъ разбросаны произведения Софокловъ той эпохи. Въ тотъ въкъ гении забастуютъ и потребуютъ закрьтия школъ. Слава имеетъ свои предьлы, дальше которыхъ она превращается въ неприятность, которую трудно переварить.
Это относится даже къ прообразамъ. Всъ мы знаемъ, какъ это смъшно, когда Гамлетъ, напримъръ, становится бытовымъ явлениемъ и проникаетъ въ Щигровский уъздъ. Почему? Эльсиноръ не больше Щигровъ, — а въ то время онъ былъ, несомнънно, даже куда грязнъе, чъмъ Щигры. Дъло не въ мъсте, даже не въ санъ королевича, дело только въ количествъ. Одинъ Гамлетъ — это поэтично, сто Гамлетовъ — это смъшно. Хуже того: никто даже не признаетъ въ иихъ Гамлетовъ, хотя бы они были, какъ двъ спички изъ одного коробка, похожи на свой прообразъ. Или вотъ еще примъръ, изъ нашего нынъшняго быта. Вы ъдете на крыше омнибуса. За вами вскарабкивается кондукторша; на ней глупая мужская фуражка и блестящая пуговицы; омнибусъ качаетъ, и она неловко задъваетъ боками за спинки сидъний; вамъ полагается большая сдача, и она, разставивъ сапоги, лъзетъ въ какой-то десятый карманъ, гдъ у нея бумажки. Извольте въ этомъ видъ угадать ея прообразъ. Далеко на съверъ — гора, на горъ — лесъ, въ лъсу — шалашъ; тамъ сидитъ женщина, прядетъ свою пряжу, думаетъ о комъ то, кто далеко, может быть, въ волнахъ подъ бурей, можетъ быть, въ бою подъ огнемъ, — и она поетъ: «Пусть сохранить тебя Господь, гдъ бы ты ни былъ»… Легко ли распознать тихий голосъ Сольвейгъ въ этомъ бодромъ окрикъ мужиковатой кондукторши: Кому билетъ? А ведь это она.
А можетъ быть и не она. Я еще, такъ сказать, не ръшилъ для себя этой проблемы: существуетъ ли теперь въ природъ Сольвейгъ, хотя бы новая по внешности, но въ душъ та же, или вымеръ этотъ типъ, и легкомысленный въкъ нашъ создалъ жену изъ другого ребра? Иногда мнъ кажется, что Сольвейгъ только переоделась, но жива; только ноги ея по необходимости топчутъ наши мостовыя среди людской толкотни, но душа ея далеко, въ шалашъ на горъ, и въ ушахъ ея звучитъ его последнее слово: vente — жди; она выдаетъ билеты, или служитъ при лифтъ, или разносить письма, или пишетъ на машинкъ, или упаковываетъ снаряды, — но въдь это въ сущности то же, что нитка и веретено; и въ сердцъ у нея, если ты способенъ подслушать, ты услышишь пъсню и тъ же слова — «въчныя, прекрасныя и незамътныя». Это все мнъ кажется иногда. Но иногда мнъ кажется иначе: мнъ кажется, что передъ нами — совсъмъ другая женщина, у которой, насколько знаю, нътъ еще прообраза въ литературъ. Сольвейгъ въ сущности много разъ повторяется въ литературъ; иногда это — крестьянка, иногда принцесса; иногда прядетъ, иногда ничего не дълаетъ, одни поютъ, другия молчатъ, но у нихъ одно общее, — онъ «глядятъ на дорогу». Онъ тоскуютъ и ждутъ; въ этомъ вся душа ихъ; грустью въетъ отъ нихъ, иногда затаенной, иногда явной. Въетъ ли грустью отъ Сольвейгъ нашего времени? Глядитъ ли она на дорогу? Часто ли? Не разберешь…
Конечно, нътъ сомнъния, что Сольвейгъ нашихъ дней, — за исключениемъ исключений, тоскуетъ по своемъ воинъ, боится и молится за него, если умъетъ молиться. Но когда присмотришься къ женской толпъ въ тъхъ разныхъ странахъ, что я перевидалъ за эту войну, трудно убъдить себя, что это чувство главное. Впечатлъние скоръе получается такое, что есть между прочимъ и это чувство, но оно не вытъсняетъ, какъ бывало когда то въ шалашахъ на горе, всъ другия настроенияя; напротивъ, часто эти другия настроешя одолъваютъ и захватываютъ первый планъ. Что это за другия настроения? Самый разнообразныя, — начиная съ охоты работать и кончая охотой танцевать, — но всъ они отличаются одной чертой — они ярко-мажорныя. Понятно, это не относится къ той Сольвейгъ, которая получила грустную въсть съ фронта и надъла черный крепь; мы съ глубокимъ поклономъ отходимъ въ сторону, она больше не предметъ для нашихъ наблюдений; но она -меньшинство, и, слава Богу, всегда останется меньшинствомъ. Мы говоримъ объ остальномъ большинствъ, — о тъхъ, у кого есть еще въ окопахъ любимый человъкъ, мужъ, сынъ, брать, отецъ; обилитонъ этой женской массы въ наши дни несомненно ближе къ мажорной гаммъ, чъмъ къ минорной. Какая-то неожиданная бодрость просвъчиваетъ въ каждомъ ихъ проявлении; тъ, которыъ работаютъ, вродъ описанной кондукторши, — бодро работаютъ, тъ, которыя наряжаются, — придумали задорную моду; тъ, которыя ходятъ по театрамъ, — ходятъ на веселыя пьесы. Было ли это такъ въ прежния войны? Мы уже забыли. Врядъ ли, впрочемъ, можно сравнивать: никогда еще столько народу не уходило на войну, и никогда Сольвейгъ не составляли такой огромной части населешя. При прежнихъ войнахъ онъ растворялись въ обществъ; теперь онъ — одинъ изъ главныхъ элементовъ общества, и не только въ гостиной или на улицъ, но и за прилавкомъ, и на заводахъ, и въ конторъ; не онъ теперь поддаются настроению общества, — скоръе наоборотъ. И тъмъ не менъе въ старину про нихъ писали такъ: «Ждетъ-пождетъ съ утра до ночи, смотритъ въ поле, инда очи разболълись глядючи»… А теперь? Конечно, Сольвейгъ и теперь глядитъ на дорогу, — отъ времени до времени, въ минуты, свободный отъ другихъ заботъ.