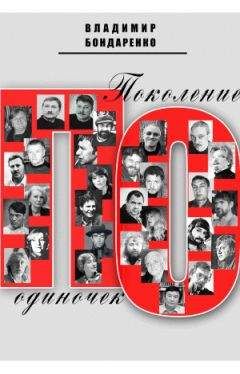Газета День Литературы - Газета День Литературы # 137 (2008 1)
собственного сердца, —
никакая это не выдумка,
а самая настоящая правда.
Юрий Карякин25 января народному артисту, певцу и поэту России Владимиру Семёновичу Высоцкому исполнится 70 лет.
Драматург Александр Вампилов однажды записал в своём дневнике: "Бетховен не повторится. Чем дальше от Бетховена, тем больше человек (в известном смысле) будет становиться животным, хоть и ещё выше организованным. В будущем человек будет представлять из себя сытое, самодовольное животное, безобразного головастика, со сказочным удобством устроившегося на земле и размышляющего лишь о том, как бы устроиться ещё удобнее". В принципе, мы уже дожили до этого предсказанного великим драматургом мёртвого будущего, но дело не в этом. Пророческие слова Вампилова можно в полной мере отнести и к советскому барду, поскольку Людвиг ван Бетховен и Владимир Высоцкий суть явления одного порядка. Объединяет их то, что оба они сожгли себя дотла во имя людей.
Владимир Семёнович Высоцкий — это настоящий русский гений. В своей статье о Борисе Рыжем "Монах поэзии" я писал, что, на мой взгляд, "основным показателем наличия гения в творческом человеке" является "душераздирающая, надрывная исповедальность", поскольку "гений предполагает умение творца полностью преодолеть страх быть непонятым и даже осмеянным, безусловно присутствующий в каждом истинном художнике; предполагает способность начисто — без всяких оговорок, кокетства и двусмысленностей — распахнуть душу публике". Именно задушевный, пронзительно искренний диалог с читателем, слушателем и зрителем, а не холодная эстетическая красота форм неопровержимо свидетельствует о дарованном человеку свыше творческом гении. И такой диалог — откровенный, прямой, отчаянный — Владимир Семёнович Высоцкий вёл со своим слушателем и зрителем всю жизнь, до самой трагической гибели.
При этом творческий гений Владимира Высоцкого был "чисто русским явлением" и "природа его популярности непонятна ни западным слушателям, ни нашей культурной элите", как верно утверждал Владимир Бондаренко в беседе с народным скульптором СССР Вячеславом Клыковым. То есть на Западе Высоцкого, конечно же, слушали, слушают и по сей день, но скорее из праздного любопытства, потому что просто интересно посмотреть и послушать, что играл и пел на семиструнке с таким болезненным хриплым надрывом молодой советский актёр. Слушали, исправно аплодировали в конце его песен, глядя на поэта с лёгкой негреющей полуулыбкой скучными серыми глазами, а потом, вероятно, изумлённо спрашивали, подобно тому пресловутому студенту-скептику: "Ну, зачем он так орёт? Есть ли на свете вещи, заслуживающие таких страстей?"…
Происходило это оттого, что отношение мастеров и народа к искусству на Западе совершенно иное, чем в России. Большинство американцев и европейцев воспринимают творческую деятельность как хобби, как увлечение в свободное от работы время, которым можно заняться при условии, что ты неплохо обеспечен материально и не имеешь серьёзных бытовых проблем. Или творчество представляет собой для них обычную работу, за которую они получают приличные деньги и потому обязаны выполнять её на уровне. По этой причине наиболее прогрессивной ветвью западной литературы, на мой взгляд, является интеллектуальная поэзия и проза. Только вот можно ли, не мудрствуя лукаво, назвать прогрессивной литературой произведения, написанные холодным сердцем, созданные исключительно ради причудливой формы, а не глубокого содержания, трогающего даже самые каменные души?..
В начале этой статьи я сравнивал Высоцкого с Бетховеном. От этого сравнения я не отказываюсь и теперь: разумеется, и на Западе есть гении в моём понимании этого слова. Взять хотя бы того же Эрнеста Хемингуэя, Джека Лондона, Ганса Христиана Андерсена, Ромена Роллана… Просто там таких людей единицы, а у нас, в русской культурной традиции, жизнь и творчество были прочно и неразрывно спаяны воедино для всех великих людей, будь то писатели, композиторы, художники, кинорежиссёры или актёры; между двумя этими широкими понятиями — "жизнь" и "творчество" — русские деятели культуры не проводили по-западному чётких границ. Представители русской культуры творили, как правило, потому, что не могли иначе, что в их сердцах и душах была неизбывная, колоссальная потребность донести свою правду до народа. Вспомним Достоевского, Есенина, Твардовского, Белова, Распутина, Примерова, Тряпкина, Шукшина… Насколько неприхотливыми были их материальные условия, условия труда! Я уже не говорю о Шаламове и Солженицыне, создававшими свои лучшие произведения вообще в невыносимой, нечеловеческой атмосфере. И тем не менее, они истово работали над своим талантом, не жалея себя, выбиваясь из сил, нередко уделяя сну по три-четыре часа в сутки, чтобы только поделиться с миллионами читателей своим давно выстраданным, но невыплаканным, наболевшим…
Точно так же, на износ, "на разрыв аорты", как метко выразился литературовед Игорь Сухих, ради миллионов советских людей жил и работал Владимир Высоцкий. Ради них он и умер — умер героически, подобно горьковскому Данко, резким движением вырвав из груди своё пылкое горящее сердце и осветив его пламенным сиянием сказочный, возвышающий душу путь выходцам из народа. Этот великий и многотрудный путь вёл от постного мещанства и убогой обывательщины к героическому и драматическому самосовершенствованию на пределе человеческих возможностей. Так что в очередной раз согласимся с Вячеславом Клыковым, назвавшим поэта Высоцкого русским национальным героем — воистину правдивы его слова.
Известный писатель Юрий Трифонов в своей статье "О Владимире Высоцком" подчёркивал: "По своим человеческим качествам и в своём творчестве он был очень русским (выделено Трифоновым. — Д.К.) человеком. Он выражал то, что в русском языке я даже не подберу нужного слова, но немцы называют это "менталитет". Так вот — менталитет русского народа он выражал, пожалуй, как никто. Причём он касался глубин, иногда уходящих очень далеко, даже в блатную жизнь, к криминальным слоям. И всё это было спаяно вместе: и пограничники, и космонавты, и чиновники, и рабочие, и блатные — всё это была картина России". Согласимся и с автором "Дома на набережной": исконно русский характер гения Высоцкого и впрямь проявляется очень пёстро и ярко. И не только в том, что бард талантливо и многогранно отражал картину народной жизни того времени, в котором жил.
Яркие проявления русского гения Владимира Высоцкого начинаются с простоватой и скромной внешности поэта, о которой с чувством сказал столько тёплых слов Вячеслав Михайлович Клыков и к которой действительно чувствуешь необъяснимое громадное доверие. Русский гений Владимира Высоцкого виден и в феноменальной ра- ботоспособности и самоотдаче певца.
Как он трудился! С какой неистовой, яростной одержимостью! Мама актёра Нина Максимовна вспоминала в журнале "Огонёк": "Писал Володя в основном ночью. Это вошло у него в привычку давно, с юности… Я старалась у него не оставаться ночевать, потому что он почти до самого утра беспокойно ходил по квартире с карандашиком, "вышагивал" рифму. Раньше четырёх не ложился. А к десяти надо было спешить на репетицию в театр. Утром я иногда приходила и будила его, он спрашивал, который час, я отвечала: без пяти девять. О, говорил он, так я могу ещё пять минут спать. И тут же засыпал.
Вообще-то он считал, что сон — это пустая трата времени. Его любимая поговорка была: "Надо робить!" Конечно, такая чрезмерная нагрузка его подкосила. Я не один раз предупреждала: "Володя, так нельзя, ты упадёшь""
Непрерывную энергичную работу Высоцкого над своим поэтическим даром вопреки любым сдерживающим обстоятельствам отмечают и его отец Семён Владимирович в воспоминаниях с грустным щемящим названием "Таким был наш сын", и Марина Влади в знаменитой книге "Владимир, или Прерванный полёт". А известный актёр театра на Таганке Валерий Золотухин и вовсе свидетельствует о своём лучшем друге: "Он жил, как перегретый котёл, который с неизбежностью должен был взорваться". И, переполненный эмоциями, рассказывает о том, как трудно на самом деле давались Владимиру Высоцкому собственные песни: "Я же знаю, как он работал над стихом. Для него каждая удачная рифма — была событием. Он часами пел одну и ту же песню почти без слов, подбирая слова". Кто бы мог поверить в слова Золотухина, слушая такие простые, настоящие, потрясающе близкие каждому из нас, удивительно гладко и ровно зарифмованные, народные песни Высоцкого? Поневоле вспоминаются слова Льва Толстого о поэтическом наследии Пушкина: "Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко". Просто Высоцкий прекрасно понимал, сердцем чувствовал: песни, написанные с кондачка, на скоростях, влёгкую, народ, тонко чувствующий любую фальшь в искусстве, категорически и безжалостно отвергнет. Для того чтобы слушатели приняли и полюбили песни творца, истинный творец должен вложить в них глубинную, сокровенную правду — правду реальной жизни. И эта подчас горькая и мучительно тяжёлая народная правда насквозь пронизывает песенное творчество поэта.