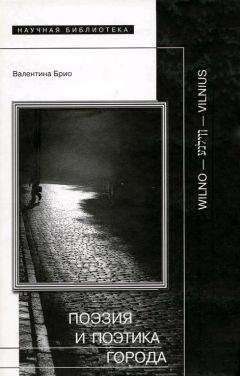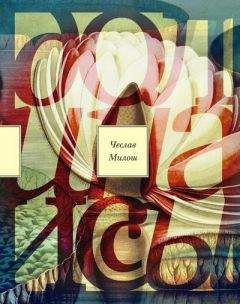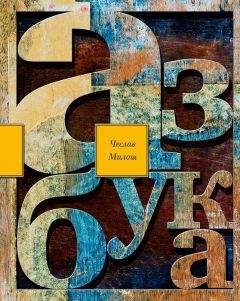Чеслав Милош - Диалог о Восточной Европе. Вильнюс как форма духовной жизни
По сравнению с Вильно Варшава была уродливым городом. В центре и кое-где на окраинах ее разъедала язва нужды — еврейской нужды ремесленников и мелких лавочников или польской нужды пролетариата. Куда Варшаве до цивилизованных городов — таких как прелестная чешская Прага; и все же Варшава жила уже в двадцатом веке. Приезжим из Варшавы, таким как поэт Галчинский, Вильно казалось неслыханно экзотичным. А меня Варшава привела в ужас. Я изучал право в Варшавском университете, и это был тяжкий опыт. На экзаменах я провалился (у профессоров, которые в подметки не годились виленским) и вернулся в Вильно.
До сих пор не могу ответить себе на вопрос, зачем я потратил столько лет на изучение права. Вот как это было: я поступил на отделение полонистики, откуда сбежал через две недели, и как только записался на отделение права, злостное (литовское?) упрямство, стыд бросить начатое заставили меня промаяться до самого диплома. Право было тогда отделением общего образования, как сейчас в Америке антропология или социология; на отделение права шел тот, кто не слишком хорошо представлял себе, чем бы заняться. А на гуманитарном отделении надо было решиться: что ж, буду учителишкой в средней школе. В молодости случаются разные высокие и неопределенные мечты, трудно быть трезвым и согласиться на скромную профессию учителя. Если бы я выбирал сейчас, при своем нынешнем опыте, я бы выбрал не полонистику и не философию (а ведь я ходил на лекции и семинары по философии), но так называемую классическую филологию, и еще занимался бы гебраистикой, изучением Библии. Но тогда латинский и греческий означали традиционно предписанную программу, стало быть в основном античных поэтов; а мне, к примеру, греческие трагедии в профессорских переводах казались невероятной скучищей, Вергилий осточертел еще в школе, иначе говоря, я считал всю эту филологию смертной мукой. Сейчас латинский и греческий, которые я начал изучать на седьмом десятке, означают для меня совсем другое: доступ в эллинский мир и к истокам христианства. Если бы тогда нашелся кто-то поумнее, кто бы меня направил, возможно, я бы скуку преодолел. Там был профессор греческого Стефан Сребрны, прямо-таки рожденный для своей специальности, и у него я мог бы учиться. А если бы я еще выучил древнееврейский язык, то оказался бы одним из немногих хорошо образованных писателей. И все-таки отделение права в Вильно было, на мой взгляд, лучше, недели в других польских университетах. Это значило, что каждый год в течение четырех лет, необходимых для получения диплома, по крайней мере один курс был настоящим событием. Среди них я перечислю: теорию права (доцент Эйник), историю государственной системы Великого Княжества Литовского (Иво Яворский), уголовное право (Бронислав Врублевский, который под этим предлогом читал курс антропологии), историю философии права (Виктор Сукенницкий). Так что в Вильно, и в средней школе, и в университете я получил все же приличное образование, хотя оно могло бы быть и лучше. А ведь систему образования после 1918 года Польше пришлось на скорую руку импровизировать, поэтому было предостаточно людей, которые заняли кафедры по чистой случайности. Во всяком случае, в Вильно не было ни одного столь несерьезного профессора, как пресловутый Ярра в Варшаве, который требовал к экзаменам выучить наизусть свой учебник теории права и срезал студента, если тот отвечал «своими словами»; при этом его учебник был сплошной бессмыслицей.
Когда мы говорим о Вильно, следует помнить, что в значительной степени это был еврейский город. Но в совершенно другом смысле, чем Варшава. Еврейский район в Вильно состоял из лабиринта узких улочек, совершенно средневековых, с арками между домами, с изрытой мостовой шириною в два, может в три метра. А в Варшаве — улицы безобразных доходных домов XIX века. Еврейская нужда в Вильно меньше бросалась в глаза; это не значит, что ее не было. Но не в этом состояла разница. Вильно было влиятельным центром еврейской культуры, с традициями. Напомню, что именно здесь, на базе еврейских рабочих, — тех, что говорили на идиш, — перед первой мировой войной возник Бунд. Его лидеры, Альтер и Эрлих, потом были расстреляны по приказу Сталина. В Вильно был Еврейский Исторический Институт, переехавший впоследствии в Нью-Йорк. Я думаю, что именно Вильно весьма способствовало возрождению языка иврит в Израиле. Живя в таком городе, я должен был получить обо всем этом представление, но обычай оказался слишком сильным препятствием. Еврейское и нееврейское Вильно жили врозь. В речи и письме они пользовались разными языками. В студенческую пору я был крайним интернационалистом — впрочем, поверхностным. Я ничего не знал об истории евреев в Польше и Литве, об их религиозной мысли, еврейском мистицизме, Каббале; разобраться в этом мне удалось намного позже, в Америке. Это показывает, насколько были разделены две общины; что уж говорить о других городах довоенной Польши, если я в таком окружении остался невеждой! Никто в Польше, насколько мне известно, не отважился предложить, чтобы древнееврейский язык преподавался в школах как один из «классических» языков, чтобы изучалась история мысли польских евреев или хотя бы Ветхий Завет с комментариями: такого человека забросали бы каменьями. И если нелюбовь евреев к полякам, — хотя они странным образом склонны прощать немцев и русских, — мне очень тяжела и обидна, я все же должен признать, что мелкий антисемитизм (по-английски я сказал бы «petty», по-французски — «mesquin») может оскорбить не меньше, чем преступление, потому что с ним люди сталкиваются ежедневно.
Я надеюсь, что Ты найдешь в моем письме материал для размышлений. Мы оба хотим, чтобы польско-литовские отношения складывались иначе, чем в прошлом. Оба народа прошли страшные испытания, были завоеваны, унижены, растоптаны. Новые поколения будут разговаривать друг с другом иначе, чем в предвоенное время. Однако мы должны считаться с силой инерции и с тем, что в образовавшемся идеологическом вакууме национализм в Польше или в Литве не раз будет вступать на проторенный путь; ведь в истории каждой страны существуют повторяющиеся модели, patterns. В конце XVIII века в Польше произошел раскол на лагерь реформистов и лагерь сарматов12, и эти две группы под разными масками существуют по сей день, хотя в условиях строя, где все происходит тайно или полутайно, их трудно заметить. Может быть, изданная в Париже благодаря «Культуре» книга Адама Михника «Церковь, левые, диалог» предвещает конец этого раскола. Ведь в нашем столетии оплотом сарматского образа мысли, который породил современный национализм, по крайней мере до 1939 года, была Церковь. Сейчас вырисовывается новый союз, Церковь в Польше оказалась средоточием сил прогресса, а прогресс в тамошней системе может означать только успешную защиту человека — именно ее, не что либо иное. Но это сложные далеко не мгновенные перемены; они вовсе не означают, что националистические настроения предвоенного образца исчезли у значительной части духовенства.
В 1918–1939 годах литовцы не любили всего того, что мне в Вильно было близко: «местных», мечту о федерации, регионализм, масонов-либералов, которые когда-то пошли за Пилсудским. Кажется, предпочитали иметь дело с «anima naturaliter endeciana», потому что тогда по крайней мере враг виден отчетливо. Может, они были правы, не буду судить. И однако именно эта линия создает надежду на дружбу между поляками и литовцами. Наконец, именно к этой линии возводит свою политическую родословную Ежи Гедройц, редактор парижской «Культуры», сотрудником которой я являюсь много лет.
Чеслав Милош
Дорогой Чеслав!
Я уехал из Вильнюса полтора года тому назад, и не знаю, вернусь ли в этот город; если это и случится, то не в ближайшем будущем. Один мой друг, тоже недавний эмигрант и при этом честолюбивый советолог, утверждает, что огромные перемены в Восточной Европе могут произойти буквально за несколько лет. Тогда бы наша эмиграция окончилась естественным путем. Хотя я в общем оптимист, но с этим мнением не согласен: дело, несомненно, будет затяжным, нам придется свыкнуться с этой второй жизнью на Западе. В некотором смысле она напоминает загробную жизнь. Мы встречаемся с людьми, которых на этом свете увидеть и не надеялись; а со старыми знакомыми мы разлучены более или менее навсегда. Связи с ними несколько отдают спиритизмом. От нас уходят прежние пейзажи; зато мы видим предметы, о которых имели очень смутное понятие. Я пишу это в маленькой венецианской гостинице, в нескольких шагах от Сан Марко. Если бы пять лет тому назад кто-нибудь сказал мне, что я буду в ней сочинять Тебе письмо, я бы ответил, что у него слишком буйное воображение.
Я еще помню каждый вильнюсский переулок; я мог бы идти по этому городу не глядя по сторонам, думая о чем-нибудь своем, а все-таки нашел бы там все. Кстати, временами я проделываю это во сне. Но город удаляется от меня невозвратимо: знаю, что он меняется, и в этих переменах я уже не участвую. Начинаю видеть его упрощенно, в общих чертах — быть может, на фоне истории. Ностальгии не испытываю. Когда я решился уезжать, многие мне говорили, что ностальгия — страшное дело. Я отвечал, — в полном соответствии с истиной, — что ощущаю чудовищную ностальгию по Франции, Италии и так далее: сильнее она уже не будет. Сейчас я совершенно счастлив, слыша колокола Венеции и зная, что через пять минут могу снова увидеть Сан Джорджо Маджоре — наверняка самый прекрасный фасад на свете. Я не хотел бы вернуться в нынешний Вильнюс; собственно говоря, я там попросту не вытерпел. И все же я люблю этот город и сейчас действительно начинаю понимать, что он тоже причастен к Европе.