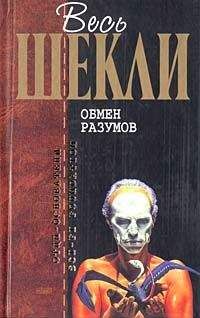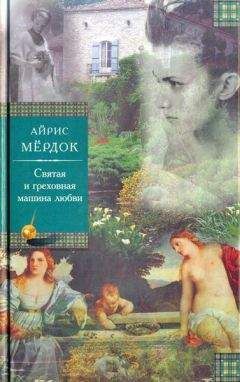Щебечущая машина - Сеймур Ричард
Только за первые два года нового тысячелетия было произведено больше данных, чем за всю историю человечества. К 2016 году 90 % мировой массы данных было создано за предыдущие два года со скоростью 2,5 квинтиллиона байтов в день. Большая часть данных приходится на интернет, а не на телевидение или газеты. К 2017 году ежедневно каждую минуту пользователи размещали более полумиллиона фотографий в Snapchat, писали почти полмиллиона твитов, оставляли больше полумиллиона комментариев в Facebook и смотрели больше четырех миллионов роликов в YouTube. В том же году Google обрабатывал 3,5 миллиарда поисковых запросов в день.
При наличии такого объема данных все, по идее, должно работать без всякой прикладной теории. Прекрасным примером эффективности «больших данных» долгое время считался сервис Google Flu Trends. Начиная с середины 2000-х годов, компания Google приступила к разработке инструмента, который сравнивал историю запросов в их поисковой системе с вероятным началом эпидемии гриппа. Какое-то время результаты анализа были пугающе точными. Google предсказывал следующую вспышку на десять дней раньше Центров по контролю и профилактике заболеваний. К 2013 году система начала давать сбой. Коэффициент распространения заболеваний завышался почти в два раза. Тогда-то и стало очевидно, что потенциал Google слишком преувеличен.
Цифры никогда не говорят сами за себя. Каждый набор данных требует обработки, переработки и интерпретации. Объем данных – недостаточный критерий, чтобы судить, насколько они полезны. А их обработка всегда подразумевает теорию, независимо от того, признают ее или нет. Компания Google, не желая допускать, что ее собственная работа подразумевает теорию, просто разработала модель, которая экстраполировала данные из корреляций, установленных чисто массивом данных. Они никогда не пытались выяснить причинно-следственную связь между критериями поиска и эпидемией гриппа, потому что это теоретическая проблема. По иронии судьбы, их метод перестал работать, потому что интересовались они только тем, что работает.
Большие данные – не замена научному методу. Пионерам в сфере извлечения и анализа данных так и не удалось найти волшебную таблетку, а вот деградации информационной и исследовательской экологий они поспособствовали.
Если бы средствами нашего языка можно было исчерпывающе объяснить быструю деградацию информации, возможно, мы знали бы и решение. Но, убивая гонца, теоретики «постправды» лишают себя возможности разобраться в ситуации.
Поскольку «постмодернизм» означает все что угодно, то многие теоретики пытаются обозвать этим термином то, что, как им кажется, изменилось. «Постмодернистский» демарш, некогда с пафосом объявленный во всех областях знаний и культуры, был скорее диагнозом, а не манифестом. Некоторые постмодернистские споры пронизаны эмансипационной стилистикой, как будто провал тотализирующих заявлений и великих нарративов заведомо бы давал свободу. Очевидно, что бывшие марксисты из нынешних постмодернистов стремились идеализировать свое историческое поражение. Как бы то ни было, идентификация эпохи постмодернизма была попыткой описать то нечто, что случилось с капитализмом. И в этом нечто – как ты его ни назови, хоть «постиндустриальное общество», хоть «экономика знания», хоть «информационный капитализм» – все большее значение приобретали образы и символы повседневной жизни.
Расцвет информационных технологий и целых отраслей, построенных вокруг коммуникаций, знаков и образов, изменили не только экономику, но и структуру смысла. Развитие информационной экономики неплохо сочетается с неудержимой стремительностью, присущей капитализму. Время и пространство для капитализма – это преграды на пути зарабатывания денег. В идеале они бы хотели обеспечить свои инвестиции здесь и сейчас. Развитие информационных технологий, позволяющих мгновенно передавать символы и образы в любую точку мира, влечет за собой, как предсказывает «Манифест футуризма» Маринетти, смерть времени и пространства. Больше всего эти технологии пригодились в финансовом секторе. Но сегодня большие данные в виде «облака» дают такие же преимущества обычным компаниям-производителям, позволяя им координировать производственные процессы по всему миру.
По иронии судьбы рост информационной экономики чреват катастрофическими последствиями для смысла. Нет никаких сомнений в том, что в наше время человек воспринимает небывалые объемы информации. В 1986 году средний американец ежедневно обрабатывал объем информации, равный 40 газетам. Через 20 лет – уже 174 газетам. К 2008 году, среднестатистический житель Соединенных Штатов Америки потреблял около 36 гигабайт информации каждый день. И большая часть информации, то есть та, что приходит к нам из социальных сетей, создается таким образом, чтобы мы непрестанно печатали и прокручивали страницы, производя тем самым еще больше информации. Заголовок сообщает нам, что мужчину зарезали в поезде на глазах у собственного сына. Чей-то статус призывает кастрировать бедняков и дураков. Вирусный ролик показывает, как танцует некий политик. Твит убеждает нас в том, что иммиграция ведет к бедности. Все эти фрагменты информации, появляющиеся с микросекундными интервалами, объединяет одно – они заставляют крутиться шестеренки, стимулируя умственную и эмоциональную деятельность, которая зачастую не прекращается в течение всего дня.
Но вы глубоко заблуждаетесь, если вдруг думаете, что больше информации означает больше знаний. Когда инженер Клод Шеннон провозгласил, что информация есть энтропия, он затронул злободневную для эпохи социальных сетей тему [39]. Будучи инженером, Шеннон интересовался информацией с точки зрения ее хранения. Можно сказать, что подбрасывание монеты содержит 2 «бита» информации, тогда как случайный выбор карты – 52 «бита». Чем выше фактор неопределенности, тем больше информации. Тот же принцип применительно к предложениям означает, что чем бессмысленнее заявление, тем большей информационной емкостью оно обладает. То есть увеличение количества информации может быть пропорционально снижению смысла.
Стимулом социальной индустрии служит постоянное производство информации: вечный двигатель, работающий на увлечениях, о которых машина не имеет ни малейшего представления. Цель этого производства – не создание контента со смыслом, а удержание на крючке пользователей. Цель в том, чтобы сделать пользователей источником силы для машины, чтобы ее эффект никогда не заканчивался. Фейковые сообщения о смертях знаменитостей, троллинг, порно-кликбейт, реклама, шквал изображений с едой и животными, соблазнительные фотографии и высказывания, бесконечная лента сообщений не несут в себе никакой смысловой нагрузки. Больше информации – меньше смысла.
Более того, это производство происходит в симулякре, очень похожем на тот, что описывал теоретик постмодернизма Жан Бодрийяр. Симулякр – это не изображение реальности. Это реальность, пусть даже и реальность, получаемая из цифрового письма и имитационных моделей. Это симуляция, вплетенная в наши жизни, и ее эффекты настолько же реальны, насколько реальны ценные бумаги или вера в Бога. Это реальность как кибернетическое производство. Подобно образам видеоигр или виртуальной реальности симулякр до странности идеален, реален, даже гиперреален. Мы стали частью системы образов и символов: от игр до новостных лент. Но этот симулякр берет свое начало в приукрашенной рекламе, чарующих голливудских грезах, изощренной индустрии игр и развлечений капиталистической культуры.
С появлением виртуальной и дополненной реальностей Щебечущая машина, возможно, стала одним из этапов в распространении симулякра, этапом с мрачным антиутопическим потенциалом. Джарон Ланье, официальный изобретатель виртуальной реальности, утверждает, что для ее работы машине нужно куда больше данных о вас, чем вы оставляете на платформах. В результате мог бы получиться самый изощренный ящик Скиннера в истории. То, что сейчас воспринимается как мир приключений и свободы, может превратиться в «страшнейший прибор по изменению поведения» из изобретенных на сегодняшний день.