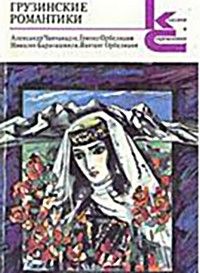Николай Анастасьев - Владелец Йокнапатофы
Мы уже знаем, что Фолкнер считал Джойса гением, а к «Улиссу» советовал подходить с верой. Только не похоже, что сам он следовал собственному совету. Веры без любви не бывает, а нельзя сказать, будто Фолкнер любил «Улисса». Да и не полюбишь этот роман-монстр, не зачитаешься им, забыв обо всем на свете, как зачитываемся мы Пушкиным и Сервантесом, Достоевским и Бальзаком. Любить — не любил, но восхищался, благоговел перед величием замысла и совершенством его воплощения — это верно. Не зачитывался, но перечитывал, хотя и не так, как перечитывал Библию, «Дон-Кихота», "Братьев Карамазовых". Читал, перечитывал — по-писательски. "Книга интересная", — сказал он как-то об «Улиссе». Интересная — в смысле поучительная.
Точно так же обиходным стало сопоставление Фолкнера с Прустом, с его знаменитым романным циклом "В поисках утраченного времени". И эта аналогия не беспочвенна. Фолкнер сам говорил, что ощущает тесную близость со старшим современником-французом, что, прочитав его впервые, испытал что-то очень похожее на зависть: "Вот это — то самое! — если бы мне такое написать". А как-то заметил и вовсе рискованно: "Он мне помог".
Чем же мог помочь Фолкнеру писатель совершенно иного склада, писатель — интеллектуал и рационалист, тщательно взвешивавший каждую фразу, каждое слово, никогда не допускавший даже и намека на тот чудовищный беспорядок, каким поражает нас автор "Шума и ярости"? Чем мог помочь писатель, который не только никогда ни мула, ни опоссума не видел, но даже не подозревал, что рни вообще существуют на свете; который не только не слышал звуков леса, но даже, плененный астмой, на городскую улицу почти не выходил из своей обитой пробкой комнаты?
Но бывает, встречается и отдаленное.
Пруст, как известно, разработал ассоциативный метод: взгляд случайно падает на какой-то предмет, и сразу же приходит в действие механизм памяти, этот предмет утрачивает четкость формы и, как снежный ком, набухает все новыми слоями — слоями пережитого. Вот знаменитый, хрестоматийный, можно сказать, пример из романа "По направлению к Свану": Марселю, автобиографическому герою всего колоссального цикла, подают чай, он тянется к вазочке с пирожными «мадлен», из чашки, из вазочки медленно выплывают детские, проведенные в провинциальном городке Комбре годы: и прогулки с Франсуазой, старой служанкой, и вечер у моря, и вокзал, и скалы, о которые разбивается прибой, и вечера, когда приходили гости, а его отправляли спать, но он заснуть никак не мог, и церковь святого Иллария с колокольней, и многое-многое другое. Точно так же — в "Шуме и ярости". Терпкий запах глицинии, разлитый в окрестностях Кембриджа, моментально возбуждает у Квентина память о Кэдди, о ее грехопадении, уходе из семьи. И Бенджи, заслышав, как барабанит по крыше дождь, начинает плакать: в темном сознании восстанавливается образ сестры, которая всегда утешала его, когда пугал своими раскатами гром.
Да, сходство очевидно, так что даже готово возникнуть подозрение если не в эпигонстве, то в ученичестве. Просто наставники другие: раньше Суинберн и Хаусмен, теперь Джойс и Пруст — всеобщие властители дум.
Но это не так. Когда-то Фолкнер хорошо сказал: "Иногда мне кажется, что в воздухе носится своего рода идейная пыльца, которая оплодотворяет близкие по складу умы здесь и там, без какого-либо прямого контакта между ними". Положим, был и прямой контакт, был и вполне осознанный литературный эксперимент в духе Джойса. Но главное все-таки, действительно, — атмосфера времени. В этом смысле Фолкнер был зависим не от того или иного современника, даже очень крупного, но от самой жизни, от господствующих или, во всяком случае, чрезвычайно распространенных умонастроений.
Раньше казалось: мир управляется разумно, любые, самые тяжелые вывихи поддаются выправлению, стоит лишь привести существующий порядок — а сделать это можно — в согласие с нормами гуманизма, выработанными на заре новой истории, в эпоху Возрождения. Причины порождают следствия, будущее предсказуемо. Поэтому и в литературе, какой бы точки ни достигал ее критический градус, сколь бы яростно ни набрасывалась она на пороки современности, выстраивалась четкая в своей последовательности, детерминистская картина мира. Положим, живет в провинции молодой человек по имени Эжен Растиньяк, он получил определенное воспитание, ему уготована определенная судьба, она его не устраивает, тогда он отправляется в Париж, видит, как трудно пробиться сквозь кастовую замкнутость того мира, что привлекает своим обманным блеском, это лишь подогревает амбиции, молодой человек готов принять и принимает правила игры. Но тем самым он разрушает в себе все добрые начала. Столица покорена, добыто министерское кресло, только слез молодости, пролитых на могиле папаши Горио, больше уж не пролить.
Все это, конечно, очень грустно, но, с другой стороны, путь, пройденный Растиньяком, может быть разложен на этапы и рационально объяснен — вот что было, вот как стало, и стало потому, что герой уступил диктату обстоятельств, отклонился от четких, далеко не исчерпанных норм морали.
В XX веке гармония, в которую Бальзак, Диккенс, даже Толстой еще верили и в которой Достоевский уже усомнился ("если Бога нет…"), идеалы, что худо-бедно удерживали мир в равновесии, — эта гармония и эти идеалы в сознании людей распались. Война, унесшая миллионы жизней, подвела черту.
Потому объяснение трагедиям стали искать не в обстоятельствах, а в душах людей, в темных глубинах подсознания, в бесконтрольных эмоциональных взрывах, в инстинктах, разрушающих и мир, и самого человека. Разумеется, прямую зависимость между состоянием общества и формой литературного произведения искать нелепо, но некая общая связь существует. История, если начать ее так: "У Джейсона и Кэролайн Компсонов было трое сыновей и дочь…" — не расскажется, не выявит ни общего, ни даже частного смысла: исчезновение некоей социально-психологической традиции. Семейными отношениями, исторической неизбежностью всего не объяснишь, центр тяжести надо перенести вовнутрь, в сферу иррационального, не желающего считаться с формами и логикой материального мира.
Так казалось многим, сдвиг запечатлелся не только в литературе. Весьма широкое распространение в Европе первых десятилетий текущего века приобрела интуитивистская философия Анри Бергсона. Его книгами, особенно "Творческой эволюцией", зачитывались в самых разных, по преимуществу интеллигентских, конечно, кругах. Полагая, что суть жизни может быть постигнута только в процессе непосредственно-интуитивного ее восприятия, французский мыслитель много рассуждал о природе времени в его взаимоотношениях с личностью. Вот, например: "Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше я активно работает, когда оно не устанавливает различия между настоящим состоянием и состояниями, ему предшествовавшими". То есть время — категория субъективная, человек формирует его, а точнее, деформирует согласно собственной творческой воле.
"Деревенский парень", вопреки стойким представлениям, читал и Бергсона, во всяком случае, он ничуть не удивился, когда это имя возникло в разговоре с одним из интервьюеров, неким Лоиком Бюваром, студентом из Франции, занимавшимся в Принстоне политическими науками. Ответил серьезно, тщательно обдумывая, по свидетельству собеседника, слова: "Да, мои представления и взгляды Бергсона крайне близки. Никакого времени нет. Я совершенно согласен с теорией Бергсона о текучести времени. Есть только летучий миг — настоящее, в которое я включаю и прошлое, и будущее, — и это — вечность. По моему мнению, художник в значительной степени способен формировать время. В конце концов, человек никогда и не был рабом времени".
Философические построения, такие на вид абстрактные, и впрямь обнаружили близость к пожелтевшим хроникам глубокого Юга, хранящим память об анекдотах и трагедиях, некогда здесь разыгравшихся. Они утаивают свой смысл, если листать страницы в их естественной нумерации. А если перетасовать их, начать с семнадцатой, затем возвратиться к первой, а от нее — к двадцать восьмой?
Это Фолкнер и принялся делать. Но, поставив точку под «монологом» идиота, то есть там, где история, по его соображениям, должна бы закончиться, вдруг обнаружил, что нет, этого мало, не рассказалась она. Тогда он передал слово Квентину — пусть он взглянет на те же события со своей стороны, договорит недоговоренное. И снова — недостаточно. Вступил третий брат — эффект тот же. Пришлось написать четвертую часть, где автор берет инициативу повествования на себя, пытаясь связать фрагменты воедино, заполнить оставшиеся пустоты.
Отчего же не рассказалась история? Ведь как возникла — не на бумаге еще, а в воображении — девочка, так и осталась до конца даже не книги, а всей жизни. Оборачиваясь назад, Фолкнер говорил: "Славно знать, что, покинув землю, оставишь после себя что-то, но еще лучше — создать вещь, чтобы, умирая, ею любоваться. Да, гораздо лучше смотреть, как обреченная девочка в запачканных штанишках взбирается на апрельскую грушу в цвету, чтобы взглянуть на бабушкины похороны".