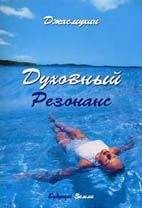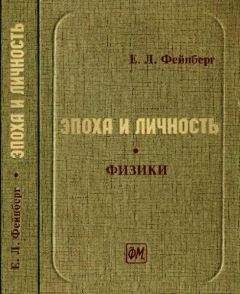Роман Редлих - Сталинщина как духовный феномен
Творческий акт советского человека по заданию власти должен был бы носить тот же стратегический характер, что и его мышление. Ведь творить в какой бы то ни было области советский человек должен тоже не по собственному усмотрению, а лишь партийно, то есть выполняя «задания партии, правительства и лично великого Сталина».
Взять хотя бы художественную литературу. В самом деле: уже с 1934 года, с I съезда советских писателей, объявившего их «инженерами душ», в служебно-пропагандистской задаче литературно-художественного творчества, в заказе, предъявляемом советским мастерам пера, уточнены все стандарты. «Угодишь, — наградим, не угодишь, — мой меч — твоя голова с плеч!» В такой, примерно, фольклорной формуле выражается категоричность, с которой авторы обязаны следовать стандартам партийного заказа.
В творчестве советских людей (не только литературном) внимательный исследователь должен поэтому особенно резко различать два плана: план заказанного автору и план субъективно авторского, не подвергнувшегося непосредственному искажению заказом, собственно творческого.
Истоки этого второго плана следует искать: субъективно — в неотменимом стремлении человека к подлинному, не фиктивному самоутверждению и самораскрытию; объективно — в изначальной внутренней свободе творческого акта. Искать этой свободы, вопреки и в обход партийного заказа, естественно для каждого творца так же, как естественно человеку, которому приказали все время ходить на цыпочках, ступать все же на полную ступню, когда надсмотрщики отворачиваются.
Совершенно очевидно, что подавляющее большинство тем и их интерпретаций, навязываемых в качестве творческих объектов советскому писателю, внутренне чужды последнему, инородны его таланту и вносятся в его творчество как гетерогенные ему элементы.
Гетерогенна и чужда в советской литературе тема счастливой и зажиточной жизни, радости и энтузиазма социалистического труда, потому что творческие впечатления писателя фиксируют лишь нищету, усталость и отчаяние; враждебна ему героика предательства, потому что этой героики он органически, а стало быть и творчески, ощутить не может; враждебна вообще обязательность воспевания фикций, потому что, будучи по самой своей природе не художественным вымыслом, а политическим лицемерием, эти фикции не образуют и не могут образовать «поэтической» (по выражению Белинского) действительности — естественного объекта художественного творчества.
«Поэтической», автогенной его творческому акту остается для художника лишь та действительность, в которой принудительные коэффициенты партийного осмысления и обобщения вынесены за скобки творчества. Подлинное, без партийно-пропагандного грима, кипение жизни; страдания, страсти и чаяния людей, не переосмысленная партийно любовь, не подгоняемая искусственно мечта о счастье — словом, всё, что как объект творческих ощущений в соединении с творческим «я» художника, только и может быть гармонически претворенным в художестве.
Десять лет спустя после смерти Сталина, когда творчество советских людей получит известный выход в «Самиздате», в переписывании и передаче из рук в руки отброшенных партийной цензурой художественных произведений, неизвестный поэт напишет:
«Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесть удивительно:
И смирны и тихи,
И не только покорны
Всем законам страны, —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!..
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю.
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу.
Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.
Я еще без поправок
Эту книгу издам!»
Появление в издательстве «Посев» в 1970 году произведений Анатолия Кузнецова и Виктора Некрасова без цензурных поправок чрезвычайно характерно.
Лишенный возможности выбора творческого объекта в целом, советский писатель, тем не менее, стремится отбирать мозаичные элементы созвучного ему автогенного в чужеродном ассортименте творческих заготовок партийного заказа. Именно этим объясняется, что во многих советских романах, повестях и поэмах, среди бледных композиций заказанного, встречаются фрагменты подлинного мастерства. Именно в этом направлении осуществляются подневольным художником робкие поиски творческой свободы.
Отталкивание от гетерогенного (часто совершенно неосознанное) есть основное творческое сопротивление советского человека активной несвободе. Оно выражается либо в полном молчании (внутренняя эмиграция), либо в весьма интересных, нередко сложных приемах обхода партийного задания, совершенно стихийно возникающих не только в литературе, но во всех решительно областях человеческого творчества.
Один из не частых, но показательных приемов такого обхода — выбор автором темы прошлого. Автор в таких случаях, нарушая основной параграф партийной инструкции («тема современности — важнейшая тема советской литературы»), знает, что ему неизбежно придется фальсифицировать историю, но предпочитает подрумянивание минувших былей облыгиванию настоящего: подрумянивать приходится все же сравнительно немногое, остальное оказывается возможным сохранить в системе художественной правды. Как пример, назовем два романа К. Федина — «Первые радости» и «Необыкновенное лето». Федин загримировал в «стопроцентных сталинцев» персонажи революционеров (Кирилл, Рагозин), облик же артиста Пастухова, например, местами дан вовсе без грима, как и целая галерея других, не центральных по замыслу и совсем не обескровленных «методом» образов.
Более обычным является прием гетерогенного обрамления темы, по природе своей автогенной, творческой. Таков, например, рассказ К. Паустовского «Шиповник». Девушка, только что окончившая техникум, едет на лесопосадки. Всходя на пароход, она думает только о суховеях, от которых придется «закрывать собственным телом» молодые деревца, об «угрюмом начальнике в черной куртке» и тому подобных обязательных вещах. Приехав на место, яростно сажает в солончаки акации, пока не прилетает к ней летчик, встреченный ею на пароходе во время пути. Вот история о том, как девушка с этим летчиком познакомилась, как вместе сходили они на берег и любовались зарослями шиповника по сторонам прибрежной тропы и составляет творческое содержание рассказика. В лесопосадочную рамку это творческое вставлено совершенно условно, без всякой с нею внутренней связи: девушка с таким же успехом могла бы окончить техникум по животноводству и заниматься внедрением передовых методов повышения удоя. Замаскированная шаблоном оправы вставка написана зато правдиво и хорошо.
Столь четкое разграничение заказанного, гетерогенного, и творческого, автогенного таланту автора практически, однако, встречается не часто; подлинно свое, подлинно художественное представлено обычно незначительными оазисами в унылой пустыне предписанного автору целого.
Нередко, тем не менее, эти оазисы суть подлинно живые оазисы, освежающие хоть частично и окружающую пустыню. Совершенно понятно, что каждый автор (и каждый читатель) отдыхают душой, вступая в них, и ищут в них творческой и художественной компенсации фальши создаваемого и воспринимаемого целого. Очень часто они более или менее сознательно допускаемые властью более или менее безобидные отдушины. Вышеприведенные примеры относятся именно к этой категории.
Но иногда эти отдушины, подлинная жизнь души и подлинное творчество оказываются пригодньгми и для эксплуатации их властью. Тогда они санкционируются сверху и открывают перед творцом драгоценную для него возможность сближения автогенного с гетерогенным, творческого с заданным.
Основные темы современного советского творчества, в которых сближение или даже совпадение автогенного с гетерогенным осуществляется, это, прежде всего, темы патриотизма и мира.
Патриотизм советский отличен, разумеется, от патриотизма в его общепринятом понимании, но само ощущение родины, ее души, ее природы — элемент органический, автогенный для всех (и даже тоталитарного) видов осмысления патриотизма. Именно этим объясняется значительное количество подлинно творческого в советской поззии и советской прозе, вдохновленных патриотическим подъемом военных лет. В той же мере и желание мира не может не быть органическим для большинства советских людей, переживших ужасы последней войны, и если даже с коммунистической интерпретацией кампании мира они полностью не согласны, — страх перед новой войной остр и у власти, и у населения.