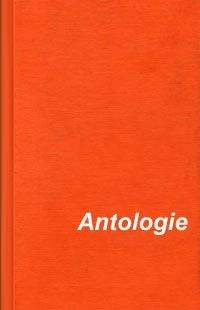Станислав Лем - Так говорил... Лем
— В ваших словах я слышу невероятно сильное желание «пробить дыру» в стене, которую поставила биология над нашим мышлением. Эти настойчивые удары по «потолку» собственных умственных способностей и желание выбраться наружу — для меня убедительное свидетельство глубокого противоречия между собой — биологическим человеком и собой — «мыслящей» субстанцией.
— В качестве ответа я прочитаю вам то, что должно вас заинтересовать. Это фрагмент письма, которое Мрожек написал мне после прочтения «Голема». Когда я давал ему эту книгу — как старому другу, — то не ожидал, что он ее будет читать. Но он снова меня удивил и пишет следующее: «Голема» я прочитал еще в Варшаве /…/ и печаль этой книги мне близка. Не знаю, заметили ли ее рецензенты? А если заметили, то не ту печаль, которую увидел в ней я /…/. Я предполагаю, что проблемы Голема — до некоторой степени Твои проблемы. С тем дополнительным бременем, что Ты — естественный человек, каким он, Голем, не был. Если я говорю, что печаль этой книги мне близка, то не потому, что у меня с Големом есть что-то общее. Это Ты «големоватый», а не я, чему я одновременно сильно завидую, но и знаю, что завидовать тут нечему, потому что это страшно тяжелая доля. Я говорю только о печали, которая возникает от столкновения с границами, за которые, как известно, человек не может проникнуть, как бы сильно он этого ни хотел. А что это за границы и где находятся, уже не важно. Если же говорить обо мне, то я скорее снова и снова отступаю от этих границ вместо того, чтобы пытаться их переступить. Хватит уже этих тщетных усилий».
Кинематографические разочарования[60]
Станислав Бересь. Некоторые из ваших книг дождались экранизации. Среди них есть произведения зарубежных режиссеров. Нельзя не спросить, что вы думаете об этих фильмах?
Станислав Лем. Ваше определение «произведения» я могу трактовать лишь как чистую иронию, если не что-нибудь похуже. Зарубежные кинематографисты накормили меня горькой пищей, поэтому скажу коротко: нечего и говорить.
— Еще мальчишкой я смотрел безвкусный фильм под названием «Безмолвная звезда». Я не все в нем понимал, но помню, что он меня сильно раздражал.
— А что я могу сказать?! В нем чуть ли не провозглашали речи на тему борьбы за мир, навалили какой-то низкопробной сценографии, клокотала смола, которая и ребенка бы не напугала… Этот фильм был дном дна! Был такой один фильм, который вы еще не могли видеть, потому что он возник в начале пятидесятых годов, — назывался «Светлые нивы». Нашего, впрочем, производства. В нем была такая прекрасная деревня, все в ней было «тра-ля-ля», люди тоже были «тра-ля-ля», крестьянин за плугом не потел, так как известно, что при социализме никто не потеет… Что-то страшное! Вот и «Безмолвная звезда» была тем же.
— Если я хорошо помню интервью, которые вы дали по поводу экранизации «Соляриса», вы не очень лестно отзывались как о фильме, так и о режиссере Тарковском?
— К этой инсценировке у меня принципиальные возражения. Во-первых, я хотел бы увидеть планету Солярис, но, к сожалению, режиссер не предоставил мне такой возможности, поскольку делал камерное произведение. А во-вторых — я и сказал это Тарковскому во время ссоры, — он вообще снял не «Солярис», а «Преступление и наказание». Ведь из фильма следует лишь то, что этот паскудный Кельвин доводит Хари до самоубийства, а потом его за это мучают угрызения совести, вдобавок усиливаемые ее новым появлением; к тому же это появление сопровождается странными и непонятными обстоятельствами. Этот феномен очередных появлений Хари был для меня воплощением некоторой концепции, которую можно выводить чуть ли не от самого Канта. Ведь это Ding an sich, Непостижимое, Вещь в Себе, Другая Сторона, на которую нельзя перебраться. При том, однако, что в моей прозе это было проявлено и соркестрировано совершенно иначе… Однако должен вас предостеречь, что всего фильма я не видел, кроме двадцати минут второй части, но я хорошо знаю сценарий, потому что у русских есть привычка делать экземпляр для автора.
И уж совершенно ужасным было то, что Тарковский ввел в фильм родителей Кельвина и даже какую-то его тетю. Но прежде всего — маму, а мама — это мать, а мать — это Россия, Родина, Земля. Это меня уже совсем рассердило. Мы были в то время как два коня, которые тянут один воз в противоположные стороны. Впрочем, позже подобная история приключилась и со Стругацкими, когда Тарковский снял «Сталкер» на основе «Пикника на обочине» и сделал из него такой паштет, который никто не понимает, но он в самый раз печальный и понурый. Тарковский напоминает мне поручика эпохи Тургенева — он очень симпатичный и ужасно обаятельный, но в то же время все видит по-своему и практически неуловим. Его никогда нельзя «догнать», так как он всегда где-то в другом месте. Просто он такой есть. Когда я это понял, то успокоился. Этого режиссера нельзя переделать, и прежде всего ему ничего нельзя втолковать, потому что он в любом случае все переделает «по-своему».
В моей книге необычайно важной была вся сфера размышлений и познавательно-гносеологических проблем, которая крепко увязывалась с соляристической литературой и самой сущностью соляристики, но в фильме, к сожалению, все эти качества были основательно выхолощены. Судьбы людей на станции, которых в фильме мы видим лишь фрагментарно при очередных наездах камеры, — это вовсе никакой не экзистенциальный анекдот, а великий вопрос, касающийся позиции человека в космосе и т. д. У меня Кельвин решает остаться на планете без малейшей надежды, а Тарковский нарисовал картину, в которой появляется какой-то остров, а на нем домик. Когда я слышу о домике и острове, то из кожи вон лезу от раздражения… В общем, эмоциональный соус, в который Тарковский поместил моих героев, не вспоминая уже о том, что он полностью ампутировал научный пейзаж и ввел кучу странностей, — все это для меня совершенно невыносимо…
— Вам трудно угодить. Меня мороз по коже подирает за Пестрака, как подумаю, что вы сейчас скажете по поводу его «Дознания пилота Пиркса».
— Достаточно, если мороз будет подирать режиссера. В этом фильме почти все было огрублено и примитивизировано. Я вам признаюсь, что с самого начала сомневался, и очень серьезно, удастся ли из этого литературного материала сделать фильм без больших изменений в сюжете и не вкладывая достаточную изобретательность в кинематографическое воображение. В этом фильме всего несколько приличных сцен. От всех остальных веет халтурой и тоской. Режиссер не пошел ни в сторону сенсационности, ни в сторону интеллектуализации, ни в какую другую сторону. Когда кто-либо спускался по движущейся лестнице, это тянулось полчаса; когда стартовал аэроплан, камера пялилась на него как баран на крашеные ворота. Нет в фильме ни «изюминки», ни запала. Все там получилось каким-то провинциальным и напоминает мне окрошку.
— А теперь присмотримся к «Больнице преображения» Жебровского. Признаюсь, что, кроме образа Секуловского, который вызвал у меня открытый бунт, фильм показался мне удачной экранизацией.
— А мне нет! Я недавно написал довольно большое эссе для журнала «Pismo», в котором на сценаристов и режиссера вылил огромный ушат помоев. За Секуловского, утешу вас, им тоже хорошо досталось.
— В вашей «Больнице преображения» этот образ очень выразительно стилизован под Виткацы, так что режиссер не сделал ничего иного, как пошел ad extremum[61] этим самым путем, делая из Виткевича ни много ни мало, а шута. Я подумал, может быть, вы дали ему на это какой-то повод?
— Считаю, что я не давал никакого повода. Мало того, что Жебровский в этом фильме изуродовал многих персонажей, так еще и нарушил слово, потому что обещал показать мне сценарий, а я его вообще в глаза не видел. Я только в этом году посмотрел фильм. Когда увидел Секуловского, у меня волосы встали дыбом. Виткацы никогда не был шутом. Он, конечно, дурачился, но ведь есть огромная разница между философом-паяцем и цирковым клоуном. У Секуловского в этом фильме отнята вся философская сторона его личности и необыкновенная аура, которую он распространял, и оставлены только какие-то странные, болезненные порывы. Вот приглядитесь к первому появлению Секуловского — с тарелкой супа. Если в качестве прототипа этого персонажа используется Виткацы, то следует помнить, что, несмотря ни на что, это был очень воспитанный человек. Ведь есть разница между человеком, который для «хохмы» во время обеда ставит себе на голову салатницу, и тем, кто устраивает в столовой скандал. Эта сцена не имеет характера ядовитой шутки, какую мог бы вытворить Виткацы. Вы, наверное, заметили, что каждый выход Секуловского заканчивается хлопаньем дверей — это попросту хам! Виткацы был эксцентриком, но не хамом, и уж наверняка не обычным хамом.