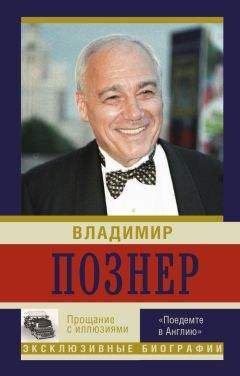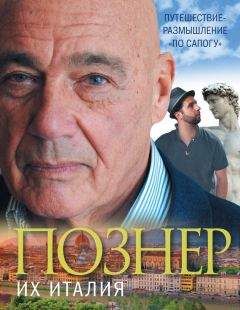Владимир Познер - Познер о «Познере»
В. ПОЗНЕР: Хорошее определение, мне нравится.
ЗРИТЕЛЬ: В свое время вы рассказывали по телеящику о том, что в Америке скоро будет революция. Как сбываются ваши прогнозы? А то мы уж заждались.
А. ГОРДОН: Легковерный русский народ. У меня особые отношения с Соединенными Штатами Америки и с их политикой. Одно могу сказать: любое более-менее внятное обострение ситуации, связанной с внешнеполитическим и экономическим положением Америки, с моей точки зрения, неминуемо приведет к острому конфликту внутри страны — противоречий там достаточно, — который можно считать новой американской революцией.
В. ПОЗНЕР: Хорошо. Человек спрашивает (я опустил его фамилию): «Что вы думаете по поводу новых правил правописания? Таких слов как «йогУрт», «брачАщиеся» и «дОговор». И зачем это вообще нужно было делать?»
А. ГОРДОН: Как говорят филологи, они ничего не придумывают, а только отслеживают меняющуюся норму и закрепляют ее в словарях. Мне кажется, в данный момент они немножко поторопились закрепить эту норму, особенно касаемо слова «кофе». Однако я придерживаюсь той точки зрения, что любая сложная система, будь то язык или человек, не столько развивается, сколько деградирует. И от этого, видимо, чем моложе язык, тем он сложнее. Русский — пока еще достаточно молодой и очень сложный язык. Но мы неминуемо придем к такому же упрощению, пройдя весь тысячелетний путь, который прошли другие языки. И если он не станет мертвым языком, чего я очень не хочу, он станет очень простым — мы будем говорить на птичьем языке.
В. ПОЗНЕР: Какие языки вы считаете более древними, чем русский? Английский?
А. ГОРДОН: Более древним, чем русский, я считаю китайский язык.
В. ПОЗНЕР: Я не способен рассуждать насчет того, что он птичий сегодня по сравнению с тем, каким был в древности, — я этого не знаю.
А. ГОРДОН: Это язык тонический. Русский — силлабо-тонический, а китайский — тонический язык. За последние столетия в результате, видимо, культурной революции они потеряли 12 тонов, оставив только 6. Если прежде петь — а именно петь надо на китайском языке — было очень сложно (ведь это был язык аристократов), то сейчас поют все приблизительно одинаково. Эту реформу провели насильно, но в течение тысячелетия китайский язык постоянно упрощался. То же самое происходит с любым другим языком. Это общее правило для всех языков — для этого не надо знать китайский. И выяснил я это, прочтя внимательно работы Владимира Александровича Бердникова, который применил некий алгоритм для того, чтобы исчислить простоту или сложность любого языка. Он как-то удивился, почему как ни доходит до нас древний текст, то все либо талантливо, либо гениально. Почему ж сегодня этого меньше? Неплохую книжку под названием «Библия» оставили нам кочевники семитских племен, в том числе Ветхий Завет и некоторые другие книги, Пятикнижие Моисея. Очень неплохие тексты оставили нам ребята из Месопотамии..
В. ПОЗНЕР: Я согласен с вами. Но я читаю Библию, естественно, не на греческом и, тем более, не на арамейском, а в переводе шекспировского времени и более современном. И мне гораздо больше нравится вариант короля Джеймса, то есть того времени. Это красивый английский язык — он более емкий. Но когда вы сказали про «аристократов» — мне это понятно, потому что аристократия и в России говорила иначе. Вы извините меня за слово «плебс», но плебс уничтожает язык. Народ никогда не уничтожает язык. Но плебс-то это делает?
А. ГОРДОН: С русским языком тоже произошла странная метаморфоза, прямо в нашем недавнем прошлом. Ведь современный русский язык, тот, на котором нас призывают говорить с телевизионных экранов, считая его нормой и хорошим тоном, — это детище Ломоносова. При этом, видимо, какие-то очень сложные детские воспоминания не позволили ему включить в корпус этого русского языка «северную говОрю» — совершенно самостоятельный, фантастический по силе и красоте русский язык, который сейчас мирно доживает свой век в Архангельской губернии и, может быть, частично используется русскими, населяющими Карелию. Его носителей становится все меньше и меньше. Ломоносов же за основу взял язык московский, великорусский и новорусский, южный говор вместо северного. Мы с вами разговариваем на этом сложносоставном, искусственном, по сути дела, языке. И если бы не Пушкин, который его облагородил, я не знаю, как мы управлялись бы с этим языком.
В. ПОЗНЕР: Да, Пушкин неплохо поработал. Теперь еще вопрос с улицы.
ЗРИТЕЛЬ: Может ли господин Гордон наедине с собой ответить на вопрос: какую цель он преследует в своей передаче? Что должно быть на выходе? Что именно он хочет сказать всем этим? Потому что часто возникает ощущение тупика.
А. ГОРДОН: Имеется в виду, наверное, программа «Гордон Кихот». Да, ощущение тупика — это именно то, чего я пытаюсь достичь в качестве эффекта. Я не сторонник учения сверхзадач, хотя у меня за плечами — классическая театральная школа, где сверхзадача — царь и Бог. Ведь мы живем в мире умирающего уже постмодерна, где насыщение смыслами и целями — дело каждого, кто потребляет этот продукт, в том числе и телевизионный. Но ощущение тупика, которое мы сами создаем, — мне кажется, что это задача, которую я выполняю. Другое дело, что, создавая это ощущение, я все-таки в следующий раз выхожу на бой, зная о неминуемом проигрыше, ощущая себя во многом виноватым в том, что пришла эта раздирающая мое сердце и душу так называемая культура, в которой мы живем сегодня.
Я всякий раз собираюсь и выхожу снова, поэтому, с одной стороны — это тупик, а с другой стороны — жить-то надо, значит, и драться надо.
В. ПОЗНЕР: На этом мы закончим с vox populi, теперь я буду задавать вопросы, которые мне приходят в голову. Диагноз, о котором вы сказали, — психопатия со склонностью к сутяжничеству — довольно жесткая вещь. Скажите, пожалуйста, это не противоречит тому, чтобы обращаться к очень большой, может быть, миллионной аудитории? Вы этот диагноз признаете как реальный?
А. ГОРДОН: Покажите мне хоть одного нормального человека, который работает на телевидении.
В. ПОЗНЕР: Еще вы сказали, что вообще людей недолюбливаете.
А. ГОРДОН: Людей я недолюбливаю — да, правда. И это мягко сказано.
В. ПОЗНЕР: Но вы к ним обращаетесь. Дон Кихот, чье имя вы посмели взять себе, любил людей — в этом нет никаких сомнений, можно перечитать книжку. Вы говорите, что недолюбливаете, при этом называете себя Кихотом, то есть человеком, готовым бороться со злом. Что вас толкает на это?
А. ГОРДОН: Давайте то, с чем я борюсь, будем называть злом только условно, потому что это зло лишь с моей точки зрения. Поскольку я заостряю авторство в этой программе до болезненности, то здесь мне мой диагноз на руку. Если есть какое-то количество людей среди аудитории, которые думают или чувствуют так же, — замечательно. Если нет, меня это не волнует. Попробую объяснить, в чем дело. Я руководствуюсь в телевизионной работе, раз уж это неизбежное зло в моей жизни (я этим деньги зарабатываю), двумя формулами. Первая: дело сделано — совесть чиста. То есть, если я делаю свою работу за деньги, я должен делать ее хорошо. Второе: исполняя эту работу, мне нужно жить еще чем-то. Я ведь как-то должен к себе относиться в жизни, это же не у станка восемь часов — отработал и ушел. Это преследует потом ежесекундно — нельзя появиться на улице или включить телефон и при этом не услышать некую реакцию на свои действия. Поэтому я сознательно иду на такое авторское обострение. То есть это «one man TV», если хотите. Такая заточенная личная позиция. А мешает здесь диагноз или помогает — я думаю, что в данном контексте скорее помогает.
В. ПОЗНЕР: Вы сказали, что для вас телевидение — это средство заработка, при этом неоднократно говорили, что вообще к телевидению относитесь негативно. И даже когда в детском саду какая-то воспитательница спросила вас: «Как объяснить ребенку, что такое хорошо или плохо по телевидению?», вы ответили: «Если телевизор не работает — это хорошо. А если он включен — это плохо». И все равно работаете на телевидении. Мазохизм какой-то. Нет?
А. ГОРДОН: Да, в какой-то мере. Но так сложилось, меня заставили обстоятельства. Из двух зол выбирают, как известно, меньшее. У меня была альтернатива очень простая: либо я в свои тридцать с небольшим лет продолжал бы работать в Бруклине в «Domino’s Pizza» пиццебоем, либо пробовал бы новое поприще, которое хоть как-то перекликалось с полученной здесь профессией. И становился телевизионным ведущим, заодно и диктором, заодно и редактором, заодно и монтажером, заодно и шофером.
В. ПОЗНЕР: И совсем за другие деньги. Все-таки там больше платили, чем за разнос пиццы?
A. ГОРДОН: Не совсем за другие. Триста долларов в неделю — согласитесь, это не предел мечтаний.
B. ПОЗНЕР: Маловато. Нет, в Нью-Йорке это совсем плохо. Шесть лет тому назад вы сказали, что ваша программа «для тех, кто брезгует телевидением. Брезгует из-за его неуважения к зрителю, из-за того, что ТВ держит его за дурака». Какая это была программа?