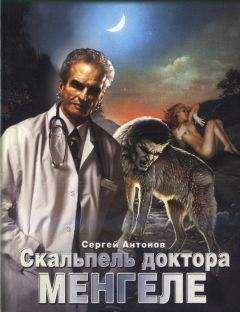Сергей Юрский - Кто держит паузу
Это был фальшивый отсчет, когда уже вообще забывалось, что речь-то идет о художественном произведении. что оно имеет свою структуру, что все части его взаимосвязаны, что оно подобно архитектурному строению. Можно его одобрить, можно критиковать. Но нельзя вырвать из него части стен, опор, потолков – оно рухнет.
Выбор того или иного автора, трактовка отдельной фразы, прозрачный намек на современность – все это уже не должно делать погоды. Время аллюзий прошло. И мы лишились иллюзии, что смелый или чуть смелый образ мыслей уже есть искусство. Театр теперь в большей степени, чем раньше, требует цельности мышления, внутренней гармонии, истинного профессионализма, поиска новой сценической поэтики. Вопрос: а раньше, недавно и давно, разве вовсе этого не было? Было. разумеется. Были художники, которые всегда искали и находили именно эти драгоценные сокровища в возможностях сценического искусства. Одним из них был – Анатолий Васильевич Эфрос.
Эпитафия
На похоронах было многолюдно и тихо. Речи и музыка лишь прерывали на время большую тишину, Это горе заставило всех нас не только сострадать, но глубоко задуматься. Вдруг осознали, что, прощаясь с Анатолием Эфросом, прощаемся с целой театральной эпохой. Он выражал время. Он противостоял времени, потому что всегда творил по велению собственного сердца. Сердце разорвалось. В Старый Новый год – 13 января 1987 года.
Есть художники, живущие в рамках школы, перенятой ими от своего учителя. Другие постоянно следуют собственной теории. Третьи более всего ценят находки – вспышки новизны внутри устоявшейся привычной формы. Эфрос в каждом спектакле или в каждой серии спектаклей делал открытия. Он прививал быт к трагедии, и ростки приживались, давали всходы. Твердоватая нечерноземная почва производственной пьесы оказывалась пригодной для бурного цветения человеческих чувств. В комедии, удивляя своей естественностью. прорастала печаль. По стенам густого быта, почти скрывая их, вилась поэзия.
Не все открытия были приняты. Не все поняты. Были неудачи, потому что иногда (редко!) утыкался в тупик. Но все остались в памяти как открытия, а этого не забудешь. А некоторые счастливые его спектакли дали всем ощутить, что мы на один шаг продвинулись к постижению великой тайны нашей общей жизни – высшее, что может сделать театр.
«Жизнь вообще очень драматична» – называлось его последнее, посмертно изданное интервью. Да, вообще и в частности. Его не баловали ни наградами, ни доверием. Больших наград он так и не удостоился. А доверие завоевывал невероятной самоотдачей в режиссерской работе и покоряющей искренностью в своих публичных и печатных выступлениях. И еще тем, что на протяжении тридцати лет всегда привлекал к себе горячий интерес зрителей. Недоброжелатели все ждали – вот-вот спадет волна доверия публики, считали его промахи, вычисляли приближение заката. Закат не наступил. Наступил конец – при ясном свете мысли, при незамутненном творческом зрении.
Из очень разных актеров Эфрос создал труппу. И актеры стали звездами. Не будем затрагивать болезненный и бессмысленный спор – кто кому больше обязан. Этот спор впоследствии и погубил труппу.
Одно несомненно: была труппа ярких индивидуальностей и родилась она в спектаклях Эфроса. Он не был главным режиссером, но у него был свой театр, который стал всемирно известным. Потом он возглавил другой театр, но своего театра уже не было. Эфроса звали. Эфроса ждали актеры в десятках мест – в Москве и в провинции, в Америке и Японии. И только там, куда он шел на репетицию каждый день, – его не ждали. Так было в последние годы. Общая смутная атмосфера разъела наконец и естественные островки творческих содружеств.
Все ли дело в объективных причинах, не было ли и собственной вины? Была. Самоволие актеров и самовластие режиссуры пришли на смену совместному поиску театральной истины, и сам поиск этот стал казаться наивным, почти детским занятием. Скромный уют родного дома выдуло сквозняком открывшихся возможностей «на стороне». В доме перестали убирать, а когда слишком много всего накопилось, презрев мудрость поговорки, стали широкими взмахами «выметать сор из избы». Откровенность стала бестактностью, собственное мнение – демонстрацией, спор – враждой и. главное, сосредоточенность – замкнутостью, несовместимой с коллективным творчеством.
Это происходило во многих театрах. Там, где расцвет был ярче, последующее загнивание выглядело заметнее.
У Анатолия Васильевича была панацея от всех бед – работа. Не сознательное решение. а сама его природа назначила ему ежеминутно быть режиссером – репетировать, сочинять спектакли, а в немногое оставшееся время – писать о спектаклях. Удивительно – откуда он черпал свое знание жизни? Ведь соприкосновенно с «житейским морем» было минимальное. Только театр, всегда театр. Откуда же возникало это достоверное до иллюзорности ощущение завода на почти пустой сцене, все подробности заводских «производственных отношений» в «Человеке со стороны»? Верилось в «Платоне Кречеге», что Н. Волков не вообще талантливы и человек, а талантливый врач, что он может вылечить не только тех, кто на сцене, но и тех, кто в зале. Условный театр Эфроса, может быть впервые, дал реальность Дон Жуана. Соревнуясь с Дзеффирелли, но абсолютно по-своему он сделал «Ромео и Джульетту» не песней о любви, но реалией любви. И дом Капулетти и сад падре Лоренцо стали настоят им местом обитания живых людей. Когда на сцене вели долгие и неисчерпаемо интересные разговоры директор театра и главный режиссер (спектакль «Директор театра»), то это были не артисты Л. Броневой и Н. Волков в ролях, а действительные руководители театра. И я, зритель, был уверен, что Волков поставил множество замечательных спектаклей.
На сцене перемежались военное время и послевоенное («У войны не женское лицо»). Обе атмосферы такие разные и плотные, что, кажется, можно рукой потрогать воздух. Не рассказ о другом времени, а само время, материализованное в театральном действии.
Я люблю эфросовских актеров. Люблю их какое-то странное, глубокое перевоплощение без изменения своей природы. Люблю несравненную нервную Яковлеву во всех ее ролях – и лучших и нелучших. Замирает дух от того. как она свободна в своем сложном рисунке. Всегда наслаждаюсь Волковым в его благородном покос, который переливается непрерывными органичными неожиданностями. Ирония и проникновенность Л. Броневого сходятся под таким острым углом, что, кажется, вся постройка вот-вот рухнет. Но она держится, вызывая ощущение театрального чуда. Дмитриева, Дуров, Грачев, Сайфулин... перечень составит то самое редкое явление, которое называется – хорошая труппа.
Театр Эфроса. И на Таганке под его руководством уже стали возникать первые приметы новой группы – А. Демидова, М. Полицеймако, А. Трофимов, И. Бортник, В. Золотухин, Р. Джабраилов в спектаклях Эфроса.
Да, да, конечно, все они и сами по себе талантливые, и с другими режиссерами талантливые – все, и с Малой Бронной, и с Таганки. Но в своих спектаклях Эфрос научил их быть особенными. Научил навсегда или только в магии его созданий?
Теперь они совсем сами. Или с другими. Навсегда без него.
И еще раз зададим себе вопрос: откуда черпал Эфрос знание жизни? Из пьесы? Отчасти. Но это открыто каждому. Из книг? Из справочников? – менее всего. Из прямого внедрения в жизнь? Но где взять время на это? Так откуда же?
Он был наделен особым, редким свойством, название которого звучит так просто – знание человеческой души. А от этого и все остальное. Знание – как говорил человек, какие у него были руки, какой взгляд, как он стоял, о чем думал, чем мучился, почему ушел...
Как Гоголь поведал нам невероятные тонкие и точные подробности о русской провинции, которую не знал, в которой не жил, которую лишь проехал в бричке по дороге в далекие края и обратно, вот так (не будем пугаться, это не сравнение, это сопоставление качеств)... и Эфрос вызвал кг жизни целую толпу героев разных времен, угадав их облик и чувства своей чуткой душой, которая из мимолетных впечатлений составила образ мира.
Глубина резкости
На первом плане некто. Он четко виден на снимке во всех подробностях. И свет хорош, И некто выглядит выразительно. Он особенно значителен, потому что все, кто на втором плане, и все, кто на третьем, – в дымке тумана, мутноваты. Такова оптика с малой глубиной резкости.
Так мы тогда и жили. Временами люди на первом плане менялись. Редко, но менялись. Бывший некто исчезал в мутных дальних планах. Освещен был только новый.
И вдруг оказалось, что есть и другая оптика. Четко увиделось гораздо большее пространство. Обнаружились и четвертый и пятый планы. Света хватило. Обнаружилось множество лиц и множество вариантов композиций. Стало интереснее, неожиданнее,, но труднее.. Появился выбор, и рухнуло единое мнение. Очень разные выводы делаем мы,, глядя на громадную нашу групповую театральную фотографию с сильно увеличившейся глубиной резкости.