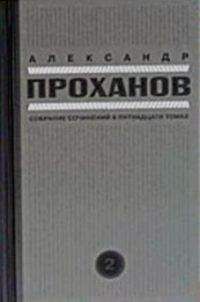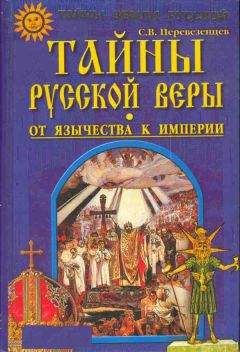Юлий Медведев - Бросая вызов
Итог? Озеленением не удастся ни предотвратить, ни задержать кислородное голодание, если ему суждено быть.
Пауза
…Я не нашел больше возражений. Действительно ли хороший конец у драмы? Содержание ее известно пока лишь узкому кругу специалистов. Есть ли смысл знать остальным?
Феофана Фарнеевича отвлек визит аспиранта. Образовалась пауза. Я подошел к окну. Институт географии стоит на берегу Куры, и из окна директорского кабинета видно много всего: гневный бег Куры и горделивый бег сверкающих автомашин; пестрое мерцание развешанного белья и пепельные стены домишек; чаша стадиона и хрупкий аист-кран, окунувший в чашу свой, тонкий клюв… А небо! Не видно в его ранне-весенней голубизне ни пыли, ни кислородной недостаточности. Где же они, «предвестники для нас последнего часа», о которых в мрачном упоении писал Тютчев? Может быть, компьютеры, ударившись в поэзию горних сфер, вдохновенно привирают? Цифры-то вселенские!
Память ловко подкинула франсовский «Сад Эпикура». В шелесте его вечных листов можно услышать слова: «Не доверяй даже математическому мышлению, такому совершенному, такому возвышенному, но до того чувствительному, что машина эта может работать только в пустоте, так как мельчайшая песчинка, попав в его механизм, тотчас нарушает его ход. Невольно содрогаешься при мысли о том, куда такая песчинка может завести математический ум. Вспомните Паскаля».
Франс намекал на то место из «Мыслей», где Паскаль, отдавая дань Случаю, писал: «Кромвель готов был опустошить весь христианский мир; королевская фамилия погибла бы, и его род стал бы навсегда владетельным, если б не маленькая песчинка, которая попала в мочеточник. Даже Рим едва не трепетал перед ним, но попала песчинка, он умер, семейство его унижено, повсюду царствует мир, и король восстановлен на престоле». Вот куда завела Паскаля песчинка.
А чего стоит предпосылка этих рассуждений!.. Кромвель — мочеточник — мир…
Краткий миг своей недолгой тридцатидевятилетней жизни Паскаль отдал светским увлечениям. Парадные залы честолюбия, кулуары интриг, любовные приключения, милости кардинала (простившего бунтарское прегрешение Паскаля-отца по просьбе миленькой Жаклины Паскаль), лотереи наследства, азартные игры и дуэли… Что могла дать свету глубокомыслящая голова? «Пусть подскажет, как делать ставки». Паскаль готов. Он творит «математику случая» — основы теории вероятностей. «Сколько раз надо кинуть две игральные кости, чтобы вероятность того, что хотя бы один раз выпадет две шестерки, превысила вероятность того, что шестерки не выпадут ни разу?» Создатель, неужели есть ответы на такие вопросы? Неужели можно схватить фортуну за рукав? Д'Артаньян и Миледи, даже Армен Жан де Плесси Ришелье и ненавидящая его Анна Австрийская, в общем, вся изящная компания «Трех мушкетеров» — современников Паскаля была бы покорена, узнав — сколько, «Двадцать пять раз», — бросил им мыслитель, не удосужив объяснения, почему.
Но к суетности был несправедлив. Ведь она-то, великосветская, и поставила задачу Шанса, и подкинула, и поддразнила лукаво не кого-нибудь, именно его, сурового янсениста, презревшего кару за греховную пытливость — «похоть ума». Задачи выискивают своих решателей. Судьбы — решителей.
…Нет, нет, надежда на спасительную песчинку — хватание утопающего за соломинку. Непрочная надежда, некомфортабельная. Другое дело, если б оказалось, что приведенные выше данные о суше, море и свободном кислороде правильные, но… имеют иной смысл. Возможен ли такой поворот?
Прошлое, как и будущее, всегда в какой-то мере гипотетично. Воссоздав из добытых фактов картину прошлого, мы как бы смотрим на художественное полотно. Допустим, изображен воин, в грустном раздумье поставивший ногу на череп лошади. («Князь молча на череп коня наступил и молвил: «Спи, друг одинокой».) Но что предшествует этому и что последует, из картины неясно. Причины и следствия мы привносим сами. Бывает, со временем их пересматривают. Рождаются и гибнут гипотезы.
Так вот, не может ли постоянство содержания свободного кислорода в атмосфере при меняющемся соотношении площадей моря и суши свидетельствовать о чем-то ином? Не вправе ли мы предположить, например, что постоянство — это как раз есть результат регулирующий миссии растительного покрова? Приспособительной перестройки его фотосинтезирующей деятельности?
Соблазн велик. Ведь потребителей свободного кислорода много, а производит его монополист — зеленое растение…
Феофан Фарнеевич телепатически угадал ход моих мыслей. Как только посетитель распрощался и ушел, а я хотел было открыть рот, чтобы порассуждать в плане «Сада Эпикура», он, опережая, сказал:
— Мне давно бы следовало сделать одну оговорку, после которой все приведенные построения могут лишиться фундамента. Видите ли, в моих расчетах есть уязвимое место…
…С некоторых пор чтение мыслей не представляется мне сверхъестественным. Вспоминаю приятеля — специалиста по радиосвязи. «Радиограмму из многих слов мы ужимаем до сигнала, короткого, как взмах ресниц, — хвастался он, — а там, где его ждут, мгновенное «тик» развернут в строки связного текста». Прием и расшифровка информации, записанной в формах и складках лица, тоже реальное дело. Известный генеральный конструктор так верил внешности, что сотрудников подбирал, как актеров на роль, — по фотографиям. Имеющий вкус к лицезрению не томится долгим сидением в автобусах, электричках, стоянием на эскалаторе, толканием среди вокзального и кинозального люда, в общем, всяким вынужденным рассматриванием галереи живых портретов без подписей. Подписи он делает сам. В этом — занятие. Он мысленно набрасывает характер исследуемого визави, возможно к досаде последнего. Доберется и до образа жизни, до его круга, до профессии… Приятно было узнать, что академику не чуждо это глядение вроде психологического графоманства. Феофан Фарнеевич гордится рядом своих наблюдений над внешностями оперных певцов, умением по лицу распознать священнослужителя и разгадать в человеке склонность к шарлатанству.
Глаз на портрете оживает от мелкого штриха. Этот посторонний интерес, выявленный в случайном разговоре, и придаст оттенки выражения.
В эпоху всесилия науки повышенный интерес вызывает не только ее объект, но и субъект. Что можно прочесть в его глазах?
Это весьма деликатный, запутанный и древний вопрос. Его живо обсуждают в последние годы. Правильно, законно ли подходить к науке «от сердца», при том, что ее объект (истина) знать не знает о человеке («ей чужды наши призрачные годы»)? Коль скоро истина вне нас и независима от нас, то она и вне добра и зла. С ее высоты глядя, гений «несовместен» не только со злодейством, но и с добродетелью.
Тем не менее Бэкон, может быть имея в виду самого себя, писал, что «наука часто смотрит на мир взглядом, затуманенным всеми человеческими страстями». Ну и что же! Надо знать место и время для цитирования, иначе очень легко попасть впросак и вызвать косые взгляды уважаемых людей.
Бывают, например, эпидемии лицеприятия. «Это нехороший человек, и наука его нехорошая», — говорят тогда, указуя пальцем. Подобные вспышки истощают научные урожаи на более или менее длительный период. Поля зарастают бурьяном. Редеют ряды возделывающих научную ниву. В разгар такой эпидемии тема «наука и нравственность» популярна чрезвычайно. Ее трактуют назидательно, ею заклинают и грозят.
…Феофан Фарнеевич, докторант академика Н. И. Вавилова, не был обойден «новым течением». Его отстранили от защиты докторской, а поскольку шел сорок первый, то докторант оказался рядовым.
Образование оплачивается тратой времени, сил и здоровья. Но за мудрость надо платить еще и горьким опытом. Только тогда она переходит в личную собственность.
Чтобы войти в права наследника жизненных принципов своего учителя, Феофану Фарнеевичу предстояло выдержать суровый экзамен. Он длился двадцать лет. «Дело Давитая» разрослось до размеров гроссбуха. Феофан Фарнеевич узнавал его на письменных столах всевозможных ответственных лиц, к которым являлся для объяснений. Он знал сочинителя, пытался и не мог понять, чем вызвал такую упорную враждебность, но не порочил автора наветов, а отдавал ему должное как ученому, организатору. «Важно было не платить тем же. Мне удалось удержаться, уж не знаю как».
Нравственные принципы и наука…
Временами, подчиняясь своим собственным циклам, какая-нибудь из этих сторон духовной жизни начинает посягать на исключительную роль в судьбах общества, принижать и третировать другую сторону. В такие периоды страдает обычно и наука и нравственность. Научная нива пустеет, зарастает сорняком. Но потом, как оно есть и в супружестве, наступают неизбежные выяснения отношений. Тогда те, кто делает упор на науку, и те, кто на нравственность, будто между ними ничего и не было, здороваются, садятся за стол, чтоб с невозможной вчера еще снисходительностью прояснить свои позиции. Такие примирения свершаются силой мудрости. Она, как старшая, берет за руки и сводит тех, кому надлежит ради общего блага быть вместе, воедино, невзирая на различия характеров и установок. Редкостная удача наблюдать сцену обретения взаимности. Это все равно что воочию видеть мудрость за ее деликатной работой. Воспользуемся представившимся случаем. Я приведу отрывки обсуждения, состоявшегося в редакции журнала «Вопросы философии» на тему «Наука, этика, гуманизм».