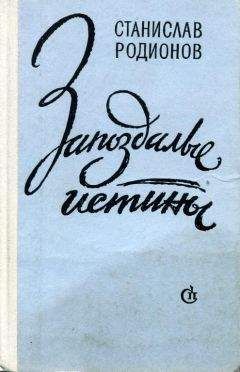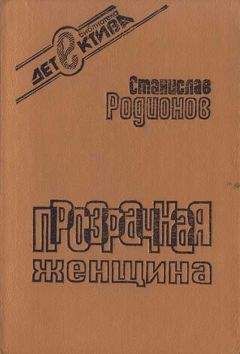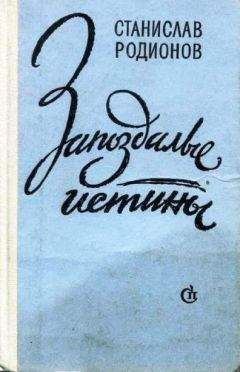Иван Родионов - Наше преступление
Тут только своим зрячим глазом он увидел притаившихся родных.
– Ва нюшка, жаланный ты наш, што ж ты нам ничего не прикажешь, горемычным? – окликнула его Акулина, поднявшись с табуретки и тихо, осторожно подходя к нему.
Иван ничего не слышал, потому что от побоев оглох, хотел поздороваться с родными и спросить, где он находится, но язык опять не повиновался ему.
«Как они меня расшибли», – подумал он. Ему стало жаль своих родных, и на глазах его показались слезы.
Это послужило как бы сигналом к общему плачу. Вся в слезах мать наклонилась к нему. Он опять захотел заговорить, но вместо слов: «Не тужите, поправлюсь, даст Бог», – только несколько раз с болезненным усилием промычал: «ме... м-е» и замолк.
Это беспомощное мычание только усилило рыдания баб. Слезы жалости к родным и досады на свою беспомощность крупными каплями полились из глаз Ивана, и здоровой рукой он стал гладить наклоненное лицо матери. Он заметил, что лежит на загрязненной им постели, и это было ему неприятно и стыдно. Он беспокоился и делал усилия перевернуться с левого бока на спину. Бабы угадали его желание и общими усилиями приподняли Ивана на руках. Он обвис и показался им куда тяжелее, чем был раньше, когда они его, бесчувственного, по несколько раз на день перекладывали с боков на спину и обратно. Однако, когда они приподняли его и, быстро сбросив грязную простыню, постлали на тюфяк чистую, он сам перевернулся и лег на спину.
Лежа в новом положении, Иван здоровой рукой крепко сжал руку жены и, глядя в ее лицо, не переставал безмолвно плакать.
Елена подставила Катерине табуретку, и та, не отнимая своей руки из руки мужа, осторожно придвинула ее ногой к кровати и села на нее.
«Ну, што ж, отмучился, – подумал он о себе. – Вот как их оставить? Кабы достатки... а по чужим людям таскаться – не ладное дело. Чужой хлеб горек, чужой угол не греет!..
Особенно ему жаль было жены. Осматривая ее, он покосился глазом на округлый, сильно выдавшийся живот ее, вспомнил, что она на сносях, и в голову ему нахлынули те радостные мысли, которые он лелеял в последние недели.
«Красные сапожки... да, – сказал он себе. – Катя обещалась родить сынишку, а я хотел обрядить его в красные сапожки... и шапочку тепленькую с наушниками, штобы на улицу выходить с им. Дождусь ли сынишку-то? Ишь какой я недужный!
И Иван все плакал и не выпускал из своей руки руку жены и все глядел на нее, не отрывая своего зрячего глаза от ее лица.
Перед глазом стало рябить и все закрываться досадливой, мигающей сеткой, и Ивану все хотелось смахнуть эту сетку, но она становилась все гуще и непроницаемее... Исчезли уже и жена, и серая стена, улетучились и сладкие мечты о будущем сынишке и красных сапожках. Он уже давно перестал плакать; зрячий глаз его наполовину закрылся, и только отзвук последней забытой мысли еще витал где-то в его мозгу. «Дождусь ли? – спросил он. – Кого?» И ему почудилось, что кто-то невидимый, но близкий прикоснулся к нему и его-то он дожидался. Он содрогнулся от непонятного ужаса. Невидимый удалился.
Теперь Иван ехал по ровному полю в телеге, доверху нагруженной муравой. Вдруг на дороге обрыв. Иван пугается; буланая кобыла села на круп; хомут ссунулся ей на самую голову, а воз все напирает; уже концы оглобель торчат выше ушей лошаденки, и вот-вот она вместе с возом и с ним полетит под кручу.
Ивану жаль и кобылы, и товара, и себя. «Што уж лошадь, мурава? Лишь бы самому быть живу...» Он хочет соскочить, но видит, что сидит не так, как раньше на передке, а уже наверху и руки, и ноги расползаются на глянцевитых, круглых горшках... Но вот уже воз – не воз, а Прошковская колокольня. «Смотри, братишка, – говорит Сашка, – как поднялась вода». Иван из-под колоколов глянул вниз и замер. Вода прибивалась к самому окну и того и гляди, что хлынет ему под ноги. Дядя Егор сказал, что это не вода, а кузовские бабы упустили наваренное к празднику пиво. Сашка толкнул его в бок: «Давай, – говорит, – хлебать». «Хлебать, так хлебать», – ответил Иван, но оказалось, что он лежал на дороге, а надо пахать.
«– Што я лежу? За меня люди орать не будут!» – сказал себе Иван, и как будто не он сам сказал, а кто-то невидимый и близкий. Он схватился за ручки сохи, приналег. Лошадь дернула; сошник с грохотом и треском сломался; Иван упал и, сотрясшись всем телом, от испуга проснулся.
Жена лежала на полу у его ног, вся в слезах, с искривленным от ужаса лицом. Ее подняли. Она рыдала, отмахиваясь руками, и отворачивала от мужа лицо.
Иван напряженно, с тревогой следил за нею глазом и старался понять причину ее испуга.
«Рази я помираю?» – спросил он себя, но забыл ответить на свой вопрос, все следя за женой.
– Мамынька, Аленушка, я боюсь, боюсь! – вне себя кричала Катерина. – Ён помирает, Ваня-то... боюсь... боюсь...
– Господь с тобою, доченька, ты его спужала. Рази можно так? Не дашь спокойно отойтить его душеньке, – укоризненно говорила Акулина. – Подь домой, доченька, Господь с тобою... Мы тут все справим и за тобой пришлем Афоню... Подь, подь! – уже нетерпеливо замахала она руками на невестку.
Катерина поспешно оделась и подошла к мужу
– Не помирай без меня, Ва нюшка, дождись жаланный, приду по утрию...
Иван ничего не слышал из всего того, что говорили около него, и напряженно всматривался в лицо жены. Поняв, что она прощалась с ним навсегда, он вдруг стал выгибаться и колотиться всем телом на постели, как делают капризные дети. Внезапный, отчаянный порыв к жизни овладел им.
– О-о-о! Ой-ой-ой! – закричал он во весь голос, и хотя двигаться ему было нестерпимо больно, а в голове крики отдавались, как в пустом бочонке, т.е. как будто не вылетали наружу, а, отталкиваясь от внутренних стенок черепа, опять шли внутрь, в голову, причиняя страшные страдания, Иван продолжал кричать. Так крикнул он раз двадцать и изнеможенный притих на постели, когда за Катериной уже давно захлопнулась дверь. Голова его втянулась в плечи, лоб вспотел, и все тело плотнее и грузнее разместилось на постели, точно прилипло к ней. Дышал он редко и тяжело, всхлипывая как-то. «Ползет... – сказал себе Иван и внутренне прислушался. – Ползет... ползет...», – повторил он. От отмершей, холодной правой половины его тела на живую, дышащую и чувствующую, наползали мурашки и равномерно, медленно ползли, мало-помалу захватывая и эту живую половину...
И Ивану показалось, что он лежит на ровном, необозримом поле и что он так же громаден, как это поле, и что его раскинутые руки и ноги давно приросли к этому полю; на них уже тихонько покачивается невысокая травка, хотя она так далеко, что видеть он ее не может, как не может видеть своих рук и ног, но знает, что она там выросла, и сам он весь медленно, но верно прирастает к земле, и это громадное поле и он – одно и то же и по нем – полю медленно, важно шествуют, блестя глянцевитыми, круглыми, рыжеватыми головками, несметные полчища крупных, величиною с кузнечика, муравьев, и эти насекомые своими бесчисленными ножками щекочут его тело. Он все хочет согнать их, но несметные полчища, не обращая на него никакого внимания, по-прежнему медленно и важно шествуют...
«Да ведь я – поле»,– догадался Иван и уже больше не замечал муравьев. Он уже никого из родных не видел и не узнавал. Зрячий глаз его остановился и без всякого выражения неподвижно глядел перед собой; дыхание вырывалось у него с шумом, и в груди, по народному выражению – «заговорил хорохол».
Опять пришел невидимый и близкий, тот, который приходил давеча дважды и которого оба раза спугнули. Теперь Иван знал уже, что он ближе всех к нему, ближе матери, жены, братьев, почти то же, что и он сам; разница была только в том, что этот невидимый и близкий все торопился уйти, а уйти он мог только с ним, с Иваном, а ему, Ивану, уходить не хотелось, ему до смерти жаль было расставаться, но с чем и с кем расставаться, он не сумел бы сказать, и ему предстояла дорога и страшно пускаться в эту неведомую дорогу и потому хотелось помедлить еще хоть одну минуту, хоть одну лишнюю секунду, но он уже знал, что этот близкий возьмет верх и путь с ним неизбежен, как сама смерть, и вот невидимый схватил его за одежду и настоятельно шептал: «Ну, што ж, готов? давно пора, пойдем, ждут!»
Иван с испугом и отчаянием вырывал у него свою одежду, но тот, уже не спрашиваясь его, тащил... И между ними завязалась ожесточенная борьба.
– Оправляется, жаланный, – покачав головой, без слез промолвила Акулина, строго погрозила глазами всхлипывающим детям, осторожно, с молитвой скрестила руки на груди умирающего и, встав лицом к привешенному в углу почерневшему образу, начала шептать молитвы. Елена, Маша и Афонька тоже стали креститься.
Катерина вышла из больницы ровно в четыре часа, а в исходе пятого Иван вдруг рванулся и затрепетал на кровати. Невидимый и близкий, убедившись, что Иван добровольно не уходит, силой стал тащить его, и это было самое страшное мгновение в жизни Ивана. В отчаянии и ужасе он боролся изо всех сил, но невидимый и близкий оказался куда сильнее и одолел и вырвал Ивана. И, уже выходя совсем, Иван узнал, что невидимый и близкий был никто другой, как он сам, и удивлению его не было предела...