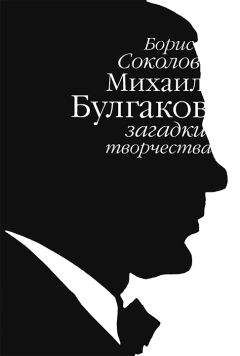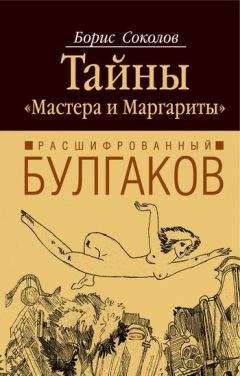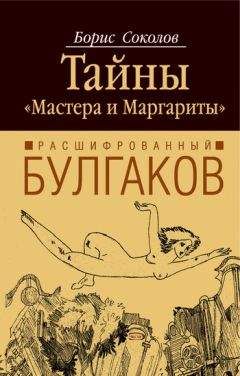Б Соколов - Булгаков
Не исключено, что из «Северной» симфонии берет начало тот залихватский свист, в котором соревнуются Бегемот и Коровьев-Фагот на Воробьевых горах:
«Воланд кивнул Бегемоту, тот очень оживился, соскочил с седла наземь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул… Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее… — Мессир, поверьте, — отозвался Коровьев и приложил руку к сердцу, — пошутить, исключительно пошутить… — тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый, из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул.
Этого свиста Маргарита не услыхала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило саженей на десять в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покрылась трещинами до самой реки». У Б. «тут выпрыгнул из чащи мой сосновый знакомец, великан. Подбоченясь, он глумился надо мной…
Свистал в кулак и щелкал пальцами перед моим глупым носом. И я наскоро собрал свою убогую собственность. Пошел отсюда прочь…
Большая луна плыла вдоль разорванных облак…
Мне показалось, что эта ночь продолжается века и что впереди лежат тысячелетия…»
Возможно, именно это место «Северной» симфонии послужило толчком для разработки многих важных эпизодов и мотивов «Мастера и Маргариты»: глумления Коровьева-Фагота над Иваном Бездомным после гибели Михаила Александровича Берлиоза, растянувшейся на неопределенно долгое время полночи на Великом балу у сатаны, тысячелетий грядущего бессмертия, которые предчувствует Понтий Пилат.
Третья симфония Б., «Возврат», помимо эпизода с первой женой Мастера, оставила и другие следы в последнем булгаковском романе. Ее основное действие, заключенное, как и в «Северной» симфонии, в «надмирное» обрамление, происходит в Москве в начале XX в. Главный герой, молодой ученый-химик Евгений Хандриков, наделенный автобиографическими переживаниями Б., - земное воплощение Бога-Сына, непорочного ребенка. Он, как и булгаковский Мастер, находится в трагическом противоречии с окружающим миром и становится жертвой козней завистника — доцента Ценха, земного воплощения Змея. Хандриков, как и герой «Мастера и Маргариты», заболевает манией преследования и ищет спасения в санатории для душевнобольных.
В «Возврате» есть описание мраморного бассейна в банях, украшенного чугунными изображениями морских обитателей, причем вода в бассейне сравнивается с рубинами, и черпают ее серебряными шайками. На Великом балу у сатаны вода в одном из бассейнов рубинового цвета, из него черпают серебряными черпаками, а струю в бассейн выбрасывает гигантский черный фонтан в виде Нептуна. В банях Хандриков встречает старика — земное воплощение Бога-Отца. У Булгакова сходными деталями оснащена сцена, где главная героиня встречает Воланда — антипода Бога.
Земная жизнь Хандрикова, как и рыцаря и его возлюбленной в «Северной» симфонии, оканчивается самоубийством. Точно так же прекращается земное бытие Мастера и Маргариты. Переход Хандрикова из надмирности в мир и обратно дан как переход из одного пространства в другое. В «Мастере и Маргарите» главные герои переходят из современного московского мира в вечный потусторонний мир, а в финале соприкасаются и с древним ершалаимским миром. Уход Мастера дан как освобождение человека, изнемогшего от страданий. Возвращение Хандрикова к старику Богу — это желанное освобождение от земных мук. Эти муки в начале симфонии предсказывает старик ребенку: «Ты уйдешь. Мы не увидим тебя. Пустыня страданий развернется вверх, вниз и по сторонам. Тщетно ты будешь перебегать пространства необъятная пустыня сохранит тебя в своих холодных объятьях…» Такую пустыню видит и Маргарита в глазах Мастера: «Смотри, какие у тебя глаза! В них пустыня…». Однако между «Возвратом» и «Мастером и Маргаритой» есть принципиальное различие. У Б. надмирные персонажи просто имеют земное воплощение и в финале возвращаются обратно в надмирность, меняя ипостаси. У Булгакова персонажи разных миров только функционально подобны друг другу, как, например, Воланд и Понтий Пилат, Иешуа Га-Ноцри и Мастер, но не переходят друг в друга, что доказывается и финалом «Мастера и Маргариты», где все перечисленные герои одновременно участвуют в действии. Интересно, что в редакции 1929–1930 гг. персонажи разных миров непосредственно переходили из одного воплощения в другое, и безумный Иван Бездомный видел, как Воланд на Патриарших прудах превратился в Понтия Пилата: «Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, и держал в руках портфель.
«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка…»
Не исключено, что садящийся в трамвай и пытающийся оплатить проезд кот Бегемот появился не без влияния четвертой симфонии Б. «Кубок метелей», где воображение героя поразил образ свиньи в пальто, садящейся на извозчика и ведущей себя вполне по-человечески. Отсюда же, быть может, превращение нижнего жильца Николая Ивановича в борова в «Мастере и Маргарите».
К «новому искусству», к попыткам преодолеть реализм в литературе и театре, олицетворением чего во многом было творчество Б., Булгаков относился без большой симпатии. В фельетоне «Столица в блокноте» он критиковал чрезмерную усложненность формы в постановке В. Э. Мейерхольда (1874–1940): «Пускай — гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я масса. Я — зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр». Автор «Мастера и Маргариты», несомненно, считал, что не только театр — для зрителей, но и литература — для читателей. Писатель, выстраивая сложную структуру своих произведений, в особенности последнего романа, предусматривал в них, наряду со сложными философскими и литературными аллюзиями для посвященных, уровень восприятия массовым читателем. Последний вполне может прочесть главное булгаковское произведение как забавный юмористический и фантастический роман, ориентированный на успех у самой широкой публики. Б. на такой успех не рассчитывал и ничего, соответствующего уровню массового восприятия, в своих вещах не оставлял. В 1930 г. критик А. К. Воронский (1884–1937), в «Литературной энциклопедии» характеризуя творчество Б., справедливо заметил: «Ритмическая проза вносит в его манеру однообразие, монотонность, в его ритмике есть что-то застывшее, рассудочное, слишком выверенное, манерное. Это часто отталкивает от Белого читателя».
Вместе с тем многие замыслы Б., осуществленные и неосуществленные, оказались созвучны булгаковским. В предисловии к «Московскому чудаку», первому роману эпопеи «Москва», Б. отмечал, что это эпопея «наполовину роман исторический. Он живописует нравы прошлой Москвы… разложение дореволюционного быта. В этом смысле первая и вторая часть романа («Московский чудак» и «Москва под ударом») суть сатиры-шаржи…». «Сатирами-шаржами», только уже на послереволюционную действительность, стали такие произведения Булгакова как «Похождения Чичикова», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Дом № 13. — Эльпит-Рабкоммуна», «Собачье сердце» и др.
И у Б., и у Булгакова имелась несомненная тяга к сверхъестественному. Вспоминая в книге «На рубеже столетий» годы, проведенные в Поливановской гимназии, Б. ярко описывал, как он и его товарищи импровизировали: «Мы, постоянные импровизаторы, мифотворцы сюжетов, рисующих драматическую борьбу света и тьмы (начала с концом); миф — события, происходящие с нами и с нашими знакомыми; место действия: Арбат, Новодевичий монастырь, Поливановская гимназия; перелагая знакомых в свой миф, мы выращивали всякую фантастику в стиле Гофмана и Эдгара По; фантастику реализма; нужна нам не сказка; не тридесятое царство: нам нужен Арбат, Неопалимовский переулок; и для съемок местностей зорко оглядываем топографию переулков, чтобы в наших рассказах друг другу соблюсти иллюзию натуры… Перекидывали, точно мячик, сюжет, сочиняемый миф — настоящее сюжетное наводнение: становился трилогией, тетралогией он; тема ширилась до всемирной истории; центром же оставалась Москва; договорились до мирового переворота, в Москве начинаемого». Эти слова вполне могли быть сказаны и о «Мастере и Маргарите». Однако Б. закончил свои воспоминания 11 апреля 1929 г., а Булгаков только месяц спустя отнес главу будущего романа в издательство «Недра», так что автор «На рубеже столетий» никак не мог знать об этом замысле.
Б. - мистик, хотя в советское время ему приходилось всячески открещиваться от такого определения сути своего мировоззрения и утверждать, намекая на полученное образование, что «типичные мистики не бывают смолоду перепичканы естествознанием». Укажем, что и арест второй жены Б. был связан с обвинениями ее в мистицизме. До октября 1917 г. Б. имел возможность более свободно высказываться на эту тему. В предисловии ко второй, «Драматической», симфонии он отмечал, что «здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма. Является вопрос, мотивировано ли сатирическое отношение к людям и событиям, существование которых для весьма многих сомнительно. Вместо ответа я могу посоветовать внимательнее приглядеться к окружающей действительности». Несомненно, для Б., помимо крайностей, существовала и некоторая «здоровая» основа мистицизма. Можно согласиться с мнением литературоведа Т.Н. Хмельницкой в предисловии к собранию стихотворений Б. в Большой серии «Библиотеки поэта» (1966): «Белый… который диалектически сам видел предмет своих заблуждений, никогда ни от чего не отходил. Для него и разоблаченные иллюзии продолжали жить… Для Белого одновременно предстает и уродливо-гротескный образ явления, и его «святая» суть. Мистики второй симфонии только доводят до абсурда идеи Вл. Соловьева, но сами идеи для Белого, в их высшем смысле, продолжают быть значительными и высокими». Надо признать справедливой и точку зрения религиозного философа П. А. Флоренского. В рецензии на «Северную» симфонию, появившейся в № 3 журнала «Новый путь» за 1904 г., он отмечал: «Для автора «Симфонии» Бог реален до осязательности: «На вечерней заре сам Господь Бог, весь окутанный туманом, бродил вдоль зарослей и качал синим касатиком». Он — здесь теперь. Наши усилия не есть что-то мнимое, вечно стремящееся, но никогда не достигающее цели, нечто оставляющее еще и еще возможность желания. Нет, еще усилие, напряжемся в последний раз — и мы в неизъяснимом трепете детской радости внезапно входим в окончательную и последнюю стадию, получаем свой идеальный облик… Поэму Белого законно назвать «поэмою мистического христианства».