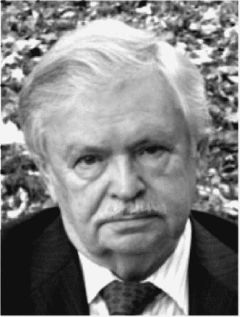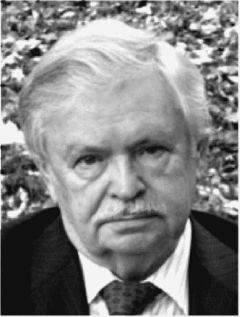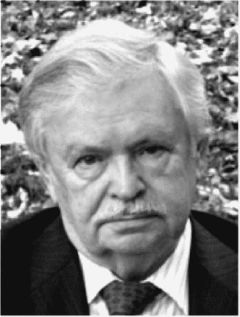Лев Котюков - Черная молния вечности (сборник)
«Продам в полцены… Никуда не денутся… Соблазнятся, увальни…» – усмехнулся Гитлер про себя и вошел в магазин.
Глава третья
Мордатые, куцекрылые ангелочки Рождества над красно-коричневыми шпилями были отвратны ему самому. Но граненые, громостойкие острия соборов, пронзающие небо, подобно копью Лонгина, радовали взгляд, он готов был рисовать их до бесконечности. И чудилось, когда он изображал собор святого Стефана, что впереди несказанная любовь и вечность; чудилось, что он, как в былые годы, самозабвенно поет в хоре Бенедиктинского монастыря, въявь слышит собственный голос – и его пение, опережая хор, уносится к Богу.
Иное грезилось той порой, великое иное… Но где оно?! И тусклы дни, и бледны грезы… И надо вот позорно торговать жалкими открытками в бессмысленной надежде на каких-то безвестных хитрюг-крестьян из Тироля. Где первые влюбленные ночи? Куда подевался безоглядный восторг?! Этому городу не нужны рассеянные мечтатели, книгочеи и духознатцы, здесь надобны хлыщеватые, вертлявые победители, пошлые, как прилизанный тенор в буфете во время антракта в опереточном театре. А он не стал победителем – и после несправедливого провала на конкурсе в академию Вена тотчас возненавидела его. Возненавидела как жертву чужой несправедливости, как заурядного неудачника. И чем больше стремился он постичь себя и свое тайное предназначение, тем сильней ненавидела его жизнерадостная Вена – так ненавидит распутная красавица сына-калеку, прижитого от самоубийцы. Он оказался на родине без родины – и оставалось обратиться в ничто, снизойти в земной ад, снизойти до конца, дабы некуда было дальше падать. И сверхусилием восстать из темного ничто, из последней бездны – и вновь обрести свою родину, сверхродину и вечность. Моря побеждают реки, ибо они находятся ниже их, – и глубина есть высота. Запасы энергии, питающие гениев, ограничены на земле Небом. От заурядности до таланта всего один шаг, но этот шаг – в высоту. Предельны на земле и запасы истинного знания, а посему им должны распоряжаться только избранные.
«За что, за что преследует его тоска по родине на родине?!.. Откуда его ненависть к этому прекрасному, воздушному городу в сердце Европы? Они внушили ему ненависть. Эти мерзкие фигляры из академии. Они отвергли его талант. Он хотел, чтобы люди видели мир таким, каким он должен быть. А они упрекали его за безжизненность, называли его рисунки мертвечиной. Они хотят, чтобы люди видели мир сквозь призму внечеловеческих сущностей, а не зрением богов. И это искаженное, обманное видение они высокопарно величают творческой индивидуальностью!.. Смешно!.. Ему отказывают в том, от чего он сам шарахается, как черт от ладана. Он жаждет истинного, а не случайного прозрения этого и иного мира. И он трижды, тысячу раз трижды прав, а не они, оправдывающие своими ложными постулатами любое художественное извращение и уродство. Они презрели его право на изображение сверхчеловеческого бытия!.. Ну что ж, тем хуже для них!.. Их удел – вечная бездна! И она грядет! Он не изобразит, он воплотит истинный незримый мир, истинное грядущее в несокрушимую, как горный гранит, явь. В этой великой яви все, страждущие от одиночества, все, обездоленные нежитью, будут едины. В единстве не будет страха. Люди должны перестать бояться друг друга! Никто, ни одна живая душа не будет страшиться одиночества и безумия. Отсутствие страха сделает людей истинно свободными, но эта свобода будет принадлежать достойным. Все, достойные единства и свободы, будут счастливы от первого до последнего часа. Избыток счастья преобразит лик Вселенной – и над новой Землей вознесется новое Небо и новое Солнце озарит вечные льды. Внечеловеческая нежить будет безжалостно сметена – и бессмертная новая явь породит сверхчеловечество. Но сначала он победит европейское одиночество – и битва уже близка…»
История!.. Ложь и химеры! Истинный ее ход незрим, как магнитные поля Вселенной. Но восходы и закаты сменяют друг друга – и незримый серебряный свет обращается в золотой огонь и в пустоту без тьмы и света. О, Боже, как скучен воображаемый немощью мир причинно-следственных связей! Затменный разум упрощает сам себя до скуки логического мышления. Можно, конечно, допустить, что в одномоментности существования прошлого, грядущего и настоящего следствие влияет на причину из-за недовоплощенности грядущего. То есть грядущее корректирует само себя в прошлом. Но от этого равно ничего не изменится: одна тоска сменит другую, а скука вывернет себя, как перчатку, наизнанку, но не прибавит тепла обмороженной руке. Истинное бытие не знает ни причины, ни следствия. События, меняющие обличье мира и корневую систему древа Жизни, могут не иметь никаких связей, но совпадать друг с другом в объектах, пространстве, времени и вечности. По теории вероятности, жизнь любого человека невозможна, а стало быть, невозможна и жизнь земная. Но человечество существует вопреки себе и – самое невероятное – тупо и слепо исповедует теорию своего несуществования. Но, может быть, эта безумная невероятность есть залог бессмертия изначального, а не отстоящего за тысячелетиями грядущего. И, может быть, история вершится в миг безмолвной встречи двух бродяг в проходном помойном дворе, а не за дубовыми обильными столами под крышами мраморных дворцов в бесконечных словоизвержениях блистательных лжевластителей мира сего.
Торговать открытками Гитлер пристроился возле книжного магазина Пречше, близ скобяной лавки, куда не зарастала бережливая крестьянская тропа, к тому же знакомство с Пречше гарантировало от возможных придирок скучающей полиции.
Пречше из окна узрел своего давнего клиента, которому когда-то, снисходя к его бедности и забитости, продавал книги в долг. Мечтательный провинциальный юноша оказался необычным книжником – он поглощал тома Фихте, Шеллинга, Гете, Гегеля, Канта, Ницше с ненасытностью одержимого буквоеда. И в конце концов Пречше предложил ему пользоваться магазином как библиотекой. Увлекаясь чтением, Гитлер оставлял пометки на страницах и виновато извинялся за своеволие, возвращая очередные прочитанные тома.
«Сверхчувственные миры в нас – и они подвластны человеку! Сверхчувственное томится от одиночества и ждет человека… Впереди открытие сверхчувственных миров…» – гласила одна из пометок.
Пречше был незаурядным книготорговцем: попытался подружиться со своим клиентом и свел его со своими единомышленниками – адептами тайных знаний и мистерий. А такой публики в те годы в салонах Вены было предостаточно. Но, сблизившись с кое-кем, Гитлер не стал их собратом, остался сам по себе, хотя, казалось бы… Пречше огорчился сей отчужденности, деликатно попытался найти хоть малую зацепку, дабы извлечь сокровенное «я» из молодой посвященной души, но наткнулся на непреодолимое – и вынужден был на время отступиться.
Завидев, что Гитлер притулил под витриной свои открытки для продажи, он торопливо выскочил из магазина и, не здороваясь, с обидой сказал:
– У вас нужда в деньгах? Мой кошелек к вашим услугам, Адольф! Зачем вам торчать на холоде?
Но в ответ Гитлер достал из кармана несколько кредиток, небрежно помахал перед носом торговца и сухо пробубнил:
– Не в деньгах принцип… Я должен их продать! Понимаете, должен!..
– Не смею мешать… – смиренно вздохнул Пречше – и уже из дверей магазина добавил – Желаю успешной торговли! Распродадите товар, заходите погреться… Кофе и пирожные ждут вас…
Глава четвертая
Гитлер при упоминании о пирожных облизнулся, – недоеденный завтрак напомнил о себе. Да и будь он сыт, все равно облизнулся бы… С детства он пристрастился к сладкому – будь его воля, набухивал бы до краев в жидкий чай мед с отцовской пасеки. Но отец безжалостно укрощал сластену-сына и мрачно бурчал: «…Живоглот, а не работник… Не будет от него проку… Зубы съест на дармовщину…» Нудил, злился, наказывал за лень – и все напрасно. Мать не только не ограничивала, но и потворствовала сыну в невинном чревоугодии, пекла чудесные бисквиты с розовым кремом и безропотно сносила придирки мужа.
«И отца давно нет, и мать в мире ином… Как быстро все минуло!.. Каким образом настоящее обратилось смертью и бессмертным прошлым? А он, вопреки отцовским брюзжаниям, жив, не избаловался, а, наоборот, закалился, бездомно скитаясь в поисках грядущего, – и зубы не съел, у дантиста не был ни разу, в отличие от своего друга юности Кубичека. И не пропал, и не подох от голода благодаря своему художественному таланту, который не желал понимать и признавать отец, а теперь отвергают бездарные верхогляды из академии. Кретины!..»
Грядущее было незримо, подобно душе человеческой, но смертельно необходимо, как животворный свободный воздух. Оно до поры таилось в незримом, само являлось плотью незримого, и только избранные могли прозреть его. И они были, эти избранные, он затылком чувствовал их оценивающие взгляды на венских площадях. Нет, не шарлатаны и извращенцы типа Либенфельса, а настоящие, бесстрастные и беспощадные. Это к ним обращал жаркий Ницше свои вещие слова: