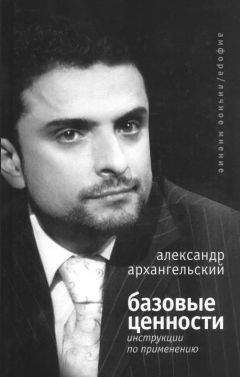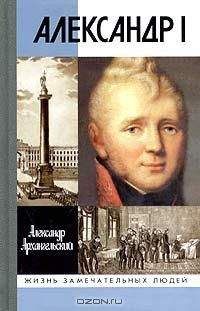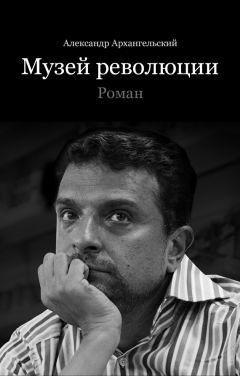Александр Архангельский - У парадного подъезда
Повторяю, все не сегодня начиналось. И даже не вчера. Не так давно я — прочел две книги, вышедшие в одной серии — «Судьбы книг». Одна — сборник «Столетья не сотрут». Другая — В. Сажин. «Книги трудной судьбы». Так вот, первая — действительно о книгах, о нашей классике от «Бедной Лизы» до «Войны и мира». О том, как литература отражалась в литературе и из литературы возникала — влияя на жизнь, но будучи от нее автономной. Вторая — о том, как жили люди в России времен Слепцова и Решетникова (и о том, как до сих пор живут). И дело здесь не в разных замыслах разных литературоведов, а в том, что Карамзин, Пушкин, Достоевский жили в литературном контексте. Слепцов же и Решетников жили в контексте жизни — и только. Она была для них единственной реальностью, им по праву принадлежащей, и можно себе представить, что вышло бы из-под их пера, вздумай они по-пушкински или по-достоевски насытить свои повести сложными сюжетными, философскими или мифологическими подтекстами… — «Отец-лес».
Но если Слепцов и Решетников были для русской классики, хотя бы и второго ряда, скорее исключением, то сейчас их опыт стал — правилом. Потому что мы выпали в осадок, выброшены из океана культуры и лежим, задыхаясь, на берегу. И писатель, который хочет иметь реального адресата, вынужден обращаться к нам, вот таким, какие мы есть, адаптировать для нас свой внутренний мир — отсюда шаг навстречу «жизни» в мемуарной прозе таких людей «культуры», как Л. Чуковская и Л. Гинзбург. (Есть, впрочем, и другой путь — вообще наплевать на адресата, заняться «игрой в бисер»: не отсюда ли всплеск авангардной прозы, остро нуждающейся в конфликте с ничего не понимающим обывателем? Так что — либо крайний авангард, либо близость к натурализму.) Насмешливый Андрей Битов, давно уже чувствовавший приближение этого момента, свой «литературный» роман «Пушкинский дом» построил на игре с классикой школьного «среднеобразовательного» ряда: «Что делать», «Герой нашего времени», «Медный Всадник». С горьким смехом расстался он с традицией высокой литературной болезни, и литература в свою очередь ответила Битову усмешкой на усмешку, именно ему поручив ввести в оборот самое беспомощное и самое яркое произведение 1989 года — роман Леонида Габышева «Одлян, или Воздух свободы», напечатанный в летних номерах 1989 года в «Новом мире». Никакому Ахто Леви с его потугами на сюжетное повествование с моралью в конце не снилась такая литературная наивность и такая сочность рассказа о зеках. Беспомощность потому и стала генератором успеха, что разрушила все преграду и вплотную, лицом к лицу приблизила читателя книги — к жизни. «Устами младенца…» Габышеву невольно удалось реализовать тенденцию всей новейшей литературы с той степенью полноты, на какую и не способен ни один профессионал, сколь угодно чуткий к веяниям времени, да просто ни один образованный человек. На своем, низовом уровне Габышев решил ту же задачу, что и А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе», — на уровне вершинном. Жанровой закваской и тут, и там стал не роман, а роман. Жанр, напрямую связанный с жизнью, рожденный из „ее недр, своего рода жизненные враки. (Мне сейчас опять скажут, что и «Архипелаг…», и «Одлян…» написаны не сегодня, — но все объяснения уже даны. Кстати, можно как угодно относиться к форме «послегулаговской» прозы Солженицына, но нельзя не видеть, что ее структурная установка более чем актуальна и основана на ясном понимании, что так писать, как раньше, уже невозможно).
Но вот интересно — литература, вплотную приблизившаяся к жизни, разбившая систему опосредующих зеркал культуры, внезапно открывает для себя, что наша опустошенная жизнь без культурного континуума обойтись не может. Что чем дальше она от него, тем активнее начинают действовать компенсирующие механизмы, пусть наивно, пусть суррогатно, но заполняющие эту пустоту. Один из самых пронзительных эпизодов «Одляна» — когда герой читает в тюремной камере стихи Есенина, блатные вирши, собственного приготовления лирику — и мы видим, что и смещенные за край ойкумены люди не могут без этого жить. Как не могут жить без своих семинаров солженицынские зеки-интеллигенты и не могут жить без их лекций и романов уголовники. Сразу вспоминаются аналогичные сюжетные ходы у Варлама Шаламова, по-прежнему широко распечатываемого ныне; вспоминается и давняя повесть А. Никольской «Передай дальше» — о театре в зоне… Точно так же эта «жизненная» литература, предельно далекая от эстетизма, в самой жизни открывает потребность и способность мифотворчества — достаточно перечитать те страницы у Габышева, где описана «вымышленная» любовь его героя, создающего в воображении свою Прекрасную Даму, свою Незнакомку. И выходит, что проза с установкой на мифологичность (так у Кима) проигрывает этой демифологизированной, «голой» прозе жизни — в мифологичности.
Впрочем, Ким — это Ким, у него и неудача по-кимовски значительна. Но вот все в том же «Новом мире» — лучшем, талантливейшем журнале нашей советской эпохи — в 1989-м появляется повесть В. Алфеевой «Джвари» (№ 6). Повесть, тема которой — паломничество нашей новообращенной современницы в мужской грузинский монастырь в поисках вечной истины — давала огромные возможности как для насыщения текста общекультурным религиозно-философским контекстом, так и для предельного расширения зоны контакта литературы с жизнью. Но сюжет здесь загнан в такие искусственные литературно-профессиональные рамки, что повесть по своей беспомощности может поспорить с романом Габышева. Однако если Габышев ведет себя как мытарь, стоит в углу и восклицает: не умею я писать, зато жизнь знаю хорошо, дай мне написать роман (и — пишет), то Алфеева, кокетничающая и своим религиозным смирением, и своими писательскими умениями, как бы говорит всем строем повести: хорошо, что дан мне талант и образование, я умею ставить слова и флософствовать не как этот мытарь Габышев. И в результате ее «умение» удушает замысел, профанирует идею.
Вот так, на мой взгляд, складывается литературная ситуация. Но тот, кто решит, будто она радует меня, — ошибается; я был бы счастлив, если бы впереди, пусть как угодно далеко, разверзалась перспектива рождения нового Толстого или нового Чехова с их повествовательной пластикой, озонной насыщенностью культурным контекстом, прихотливой игрою смыслами.
Я воспитан на такой литературе, и никакое историко-литературное трезвомыслие не заставит меня получать равное удовольствие от «голой» «жизненной» прозы, даже в вершинных ее проявлениях — уровня Лидии Гинзбург. Но удовольствие — это одно, а суд правды — совсем, совсем другое. Быть может, мы и впрямь присутствуем при тектоническом сдвиге культуры, когда на смену одной установке приходит другая и когда неизбежно возникает революционная ситуация: читатель не хочет читать по-старому, писатель не может по-старому писать.
Самое лучшее в такой ситуации — оглянуться назад и сравнить день нынешний и день минувший; развить тему, начатую в главе «Наследие и наследники», — о том, на каких условиях возможен действительный контакт современной культуры с культурой традиционной, посмотреть, как в «годы безвременщины», не только социальной, но и культурной, строил свою жизнь и «моделировали» свое творчество писатели, внутренне принадлежавшие тому, «контекстному» ее этапу… И, может быть, попытаться заглянуть в завтрашний день.
Обо всем этом и пойдет речь во второй части книги.
В тоске по контексту
(От Гаврилы Державина до Тимура Кибирова)
…Ну а перстень — никому!
О. Э. МандельштамВ 1921 году, подводя черту под своей жизнью и вместе с нею — под важнейшим этапом русской истории и русской культуры, завершителем которого он себя ощущал, Александр Блок обратился к «веселому имени» Пушкина со стихртворным посвящением «Пушкинскому Дому»:
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.
Это — древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне (…)
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!..
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.
Вот зачем в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему[68].
Нет ни одного серьезного комментария к блоковской лирике, где не была бы отмечена явная, подчеркнутая соотнесенность этого стихотворения с художественным опытом пушкинского «Пира Петра Первого» (1835):