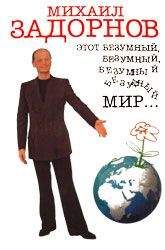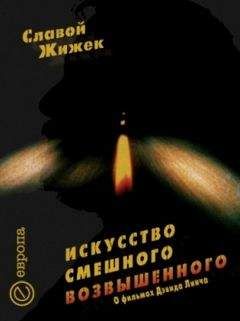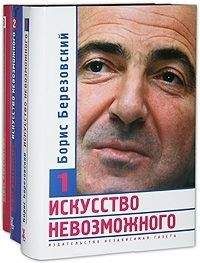Славой Жижек - Год невозможного. Искусство мечтать опасно
Здесь мы видим трагическую бессмысленность (жизни и) смерти, которую можно искупить лишь безнадежным сопротивлением, — подразумеваемый этический девиз звучит примерно так: «сопротивляйся, даже если знаешь, что сможешь только проиграть». «Сопливый», конечно, — это метафора для появляющегося позднее центрального персонажа — Омара Литтла: каждый раз он оказывается побит, но он делает это снова и снова, пока его не убивают. Вы не только проиграете, но и ваша смерть будет безымянной смертью, как у Омара Литтла под конец последнего сезона: мы видим его тело в городском морге, и все, что позволяет отличить его среди множества других тел — это бирка с именем, которую вначале по ошибке прикрепили к другому телу. Его убийство остается безвестным, он умирает без церемоний, в отсутствии Антигоны, просящей о погребении для него. Однако именно эта анонимность смерти, несмотря ни на что, смещает ситуацию от трагедии к комедии, более жесткой, чем сама трагедия: ведь смерть Сопливого никакая не трагедия — по той же причине, по какой не был трагедией Холокост. Трагедия, по определению, — это трагедия характеров, поражение героя имеет причиной какую-то слабость его характера, но было бы непристойностью утверждать, что Холокост стал результатом слабохарактерности евреев. На комичность ситуации указывает и произвольность, с которой даются клички: почему меня зовут именно так? Омар становится «Сопливым» по абсолютно внешним случайным причинам, у этого имени нет никаких глубоких оснований — так же, как в хичкоковском фильме «К северу через северо-запад» Роджер О. Торнхилл оказывается совершенно произвольно (и ошибочно) отождествлен с «Джорджем Капланом».
Но Сопливый, Омар, Макналти, Лестер и другие продолжают сопротивляться. Чуть позже в том же первом сезоне Макналти спрашивает Лестера, почему он разрушил свою карьеру, преследуя настоящего преступника (с хорошими родственными связями), и Лестер отвечает, что сделал это по той же причине, почему Макналти сейчас, вопреки пожеланиям начальства, которому нужно несколько быстрых уличных арестов, преследует банду Барксдэйла — никакой причины нет, только наличие своего рода безусловного этического порыва, который собирает вместе членов заговорщической группы. Не удивительно, что финальная сцена сериала повторяет начало: подобно Сопливому или Омару, Макналти (и другие) упорствовали в их беккетовском многократном поражении, но на этот раз, в конце концов проигравшие не только разбиты, они действительно теряют все — теряют свою работу, переживают профессиональную смерть. Последние слова Макналти — «Надо идти домой» — домой, это значит, прочь из публичного пространства.
«Прослушка» часто прочитывается в связи с фуколдианским топосом взаимосвязи власти и сопротивления, или закона и его нарушения: процесс подчиняющего регулирования порождает ровно то, что им «подавляется» и регулируется. Вспомните тезис Фуко, развитый в его «Истории сексуальности», что сам медико-педагогический дискурс, дисциплинирующий сексуальность, производит избыток («секс»), с которым он пытается совладать. Согласно Фуко это процесс, который начался уже в поздней античности, когда подробные христианские описания всех возможных сексуальных искушений задним числом порождали то, против чего они боролись. Таким образом, распространение удовольствий оказывается обратной стороной власти, которая их регулирует: сама власть порождает сопротивление ей, то есть избыток, который она никогда не будет в силах контролировать, — реакции сексуализированного тела на его подчинение дисциплинарным нормам непредсказуемы. Позиция Фуко остается тут не вполне ясной, и акценты у него сдвигаются, порой едва заметно, от «Надзирать и наказывать» к первому тому «Истории сексуальности», а от него — ко второму и третьему томам: хотя в обоих случаях власть и сопротивление тесно связаны и поддерживают друг друга, Фуко сначала акцентирует то, как сопротивление заведомо присвоено властью, так что властные механизмы господствуют над всем социальным полем, и мы оказываемся субъектами власти именно тогда, когда ей сопротивляемся; позднее, однако, акцент переносится на то, как власть порождает избыток сопротивления, который она никогда не будет в состоянии контролировать, — власть, далекая от того, чтобы манипулировать сопротивлением, становится неспособной контролировать последствия своих собственных действий.
Единственный выход из этой дилеммы — отказаться от всей парадигмы «сопротивления диспозитиву», то есть от идеи, согласно которой диспозитив, определяя возможные пределы деятельности человека, одновременно открывает пространство и для субъективного «сопротивления», которое, в свою очередь, ведет к (частичному и маргинальному) подрыву и смещению самого диспозитива. Задачи освободительной политики вовсе не в этом: не в выработке великого множества стратегий «сопротивления» господствующему диспозитиву с маргинальных субъективных позиций, а в продумывании возможностей того, как можно радикально с ним порвать. За всеми этими разговорами о «точках сопротивления» мы обычно забываем, что, как ни сложно это себе представить сегодня, время от времени и сам диспозитив меняется. Именно поэтому Катрин Малабу {83} подлинно по-гегелевски призывает оставить ставшее крайним горизонтом нашего мышления критическое отношение к реальности, под каким бы именем оно бы не проявлялось, от младогегельянской «критической критики» до «критической теории» XX века. Такого рода критическому отношению не удается в полной мере осуществить себя, то есть радикализировать субъективное негативно-критическое отношение к реальности до полного критического самоотрицания. Даже если ценой этого будут обвинения в отходе на старогегельянские позиции, необходимо занять подлинно гегелевскую абсолютную позицию, которая, как отмечает Малабу, подразумевает своего рода спекулятивную «сдачу» себя Абсолютному, своего рода абсолюцию, освобождение от обязательств, хотя и гегелевско-диалектическим способом: не через погружение субъекта в высшее единство всеохватного Абсолюта, а через вписывание «критического» разрыва, отделяющего субъекта от (социальной) субстанции, которой он сопротивляется, в саму эту субстанцию в качестве ее собственного антагонизма, самодистанцирования.
Самоустранение в заключительной сцене «Прослушки» оказывается как раз такого рода «сдачей перед Абсолютным». В «Прослушке» этот жест подразумевает, прежде всего, взаимосвязанность закона (правоохранительной системы) и нарушений: с «абсолютной точки зрения» становится ясно, что правовая система не только терпимо относится к противозаконности, но в действительности и нуждается в ней, ибо противозаконность оказывается условием функционирования самой системы. Из времен моей службы в армии (в 1975 году, в печально известной Югославской народной армии) я помню, как на занятии по праву и патриотическим ценностям офицер торжественно объявил нам, что международными соглашениями запрещено стрелять по парашютистам, пока они в воздухе; на следующем занятии, где учили обращаться с автоматом, тот же офицер объяснял нам, как целиться в парашютиста, пока он в воздухе (как учитывать скорость его снижения и целиться немного ниже, и т. п.) Я тогда наивно спросил офицера, нет ли противоречия между тем, что он говорит сейчас, и тем, что он говорил нам час назад; офицер только рассерженно посмотрел на меня, как бы недоумевая, каким придурком нужно быть, чтобы задавать такие вопросы. И вообще, хорошо известно, что большинство социалистических стран выживали только благодаря черному рынку (который, среди прочего, обеспечивал до трети продовольственных товаров) — если бы какая-нибудь официальная кампания по борьбе с ним оказалась успешной, система бы рухнула.
Если вернуться к «Прослушке», то наиболее важной дилеммой в том, что касается связи между законным порядком и его нарушениями, оказывается вовсе не статус откровенно преступных действий (торговли наркотиками): здесь-то ясно, что сама правоохранительная система порождает те преступления, с которыми она борется, — было написано немало книг о том, как правоохранительные системы и наркоторговля влияют друг на друга. Подлинно важная дилемма, более коварная и трудно разрешимая, заключается в том, каков статус (утопического) сопротивления в «Прослушке». Это индивидуальное сопротивление, желание хоть как-то сохранить минимальную степень личного достоинства, от Сопливого и Омара до Фримона и Макналти, является ли оно также всего лишь оборотной стороной системы, которая его поддерживает? И если да, не будет ли тогда правильный ответ заключаться в, казалось бы, странном и сомнительном решении перестать сопротивляться?
Здесь нам поможет многое прояснить (возможно, неожиданное) отступление. Если и есть настоящий оппонент «Прослушки», то это Айн Рэнд. Может показаться, что подлинный конфликт в мире двух ее романов разворачивается между продуктивным гением творческих и предприимчивых людей (prime movers) и толпой посредственностей-приказчиков (second handers), которые на них паразитируют, в то время как переживания предприимчивых людей в отношениях с их женскими сексуальными партнерами образуют как бы вторичную по значимости линию сюжета. На самом деле подлинный конфликт разворачивается среди самих предприимчивых людей: он кроется в (сексуализированном) конфликте между теми предприимчивыми людьми, которые воплощают собой чистую увлеченность делом, и их истерическими партнерами, потенциально тоже предприимчивыми, но захваченными смертельной саморазрушительной диалектикой (отношения между Рорком и Доминик в «Источнике», между Джоном Голтом и Дагни в «Атлант расправил плечи»). Когда в «Атлант расправил плечи» одна из главных предприимчивых личностей говорит Дагни, которая непременно хочет продолжать заниматься своей работой и сохранить трансконтинентальную железнодорожную компанию, что главным врагом предприимчивого человека является не толпа посредственностей, а она сама, то это надо понимать буквально. Дагни также озабочена этим: когда предприимчивые люди начинают исчезать из публичной производственной жизни, у нее появляются подозрения о существовании темного заговора, «разрушителя», который заставляет этих людей уйти, и таким образом социальная жизнь постепенно останавливается; она при этом не сознает, что фигура «разрушителя», в котором она видит крайнее воплощение врага — это фигура ее подлинного Искупителя. Ситуация разрешается только тогда, когда истерический субъект наконец отделывается от своего рабского состояния и признает в фигуре «разрушителя» своего Спасителя — почему? Посредственности онтологически несостоятельны сами по себе, и потому ключ к решению проблемы — это не сломить их, а разорвать цепь, которая заставляет творческих и предприимчивых людей на них работать, — когда эта цепь окажется разорвана, власть посредственностей распадется сама собой. Цепь, которой предприимчивый человек прикован к извращенному существующему порядку, — это не что иное, как его же привязанность к своему продуктивному гению. Предприимчивый человек готов заплатить любую цену за возможность и далее творить, вплоть до крайне унизительной обязанности кормить ту самую силу, которая работает против него. То есть эта сила паразитирует на деятельности, которую она официально стремится упразднить. Таким образом, на что стоит решиться истеричному предприимчивому человеку, так это на принятие экзистенциального безразличия: он не должен больше стремиться быть заложником шантажа со стороны посредственностей-приказчиков. «Мы позволим тебе работать и реализовывать твой творческий потенциал, но при условии, что ты примешь наши правила». Дагни обнаруживает, что от нее требуется готовность оставить самое главное в ее жизни и принять «конец мира» — (временную) приостановку того самого потока энергии, которым существование этого мира поддерживается. Чтобы иметь все, ей надо быть готовой пройти через нулевую точку потери всего.