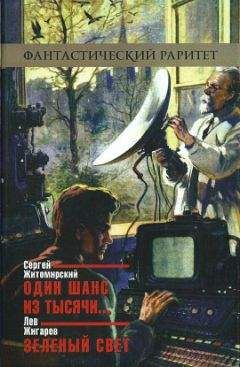Александр Жигарев - Анна Герман
Всего несколько лет назад никто и не знал ее имени и, случись с ней тогда это несчастье, никто бы не обратил на нее никакого внимания. Мало ли! Ежедневно, ежечасно, ежеминутно в автокатастрофах гибнут, получают тяжелые увечья столько людей! А вот о ней думают, за нее переживают. Конечно, не стоит преувеличивать, но и не надо преуменьшать: может, действительно есть в ее голосе, в ее песнях что-то очень близкое и дорогое сердцам многих? И это, наверное, самое важное, чего ей удалось добиться в жизни.
А письма из Советского Союза шли и шли... Теперь Анна была просто не в состоянии отвечать всем своим корреспондентам. Она отвечала некоторым, тем, кто действительно нуждался в ее ответе. Например, одной тяжело больной женщине из Волгограда. Та лежала парализованная много лет, и Анна нашла для нее добрые, ободряющие слова. Пришло письмо из Ургенча; человек, не знавший, что она его землячка (да и откуда он мог знать?), приглашал ее после выздоровления в Ургенч. И уверял, что, если она попробует знаменитой среднеазиатской дыни, все ее болячки как рукой снимет. Анна ответила земляку очень весело, написала, что ловит его на слове, обязательно приедет и съест дыню.
Ургенч, Ургенч - город детства, родина. "Все могло быть иначе". Как часто эта фраза сверлила ее сознание, заставляя возвращаться в прошлое, менять все местами, как расставляют дети на полу кубики... Как помнила Анна свою родину! Как тосковала по ней! Как мысленно сотни раз возвращалась, чтобы поклониться родной земле... И вот сейчас она прямо-таки физически ощущает, как ее соотечественники, ее земляки наполняют ее душу уверенностью. Как там, под жестким гипсом, происходит невидимый процесс выздоровления, источник которого здесь, в коротких строчках человеческой любви и сострадания.
И вот пришел день, которого она ждала многие месяцы, - день частичного снятия гипса. Была освобождена грудная клетка, и она, впервые за долгое время, вольно вздохнула. Каким же это было блаженством! Она стеснялась Збышека, не разрешала ему присутствовать при перевязках, стеснялась санитаров, даже лечащего врача. От гипса остались кровоточащие ссадины. И хотя врач бодро уверял, что все идет нормально, Анна знала, что он беспокоится по поводу появившейся маленькой опухоли на левой руке около плеча.
Клавиры, когда-то забракованные ею, теперь доставляли Анне истинное наслаждение. Она их "проигрывала" в своем сознании. За нотными строчками видела большие оркестры, управляемые превосходными дирижерами, слышала музыку этих оркестров и вновь видела себя на сцене.
Она написала письмо в Москву Качалиной - обычное письмо, где ничего не надо было придумывать, заботиться о стиле, а просто и чистосердечно рассказать о том, что произошло, и попросить поддержки. Качалина, как и ожидала Анна, ответила немедленно. Ее письмо было очень трогательным и вместе с тем деловым. Она не сомневалась, что работа над пластинкой будет продолжена, сообщала, что ищет для Анны клавиры новых песен, что у нее имеются клавиры новых песен Пахмутовой и Фельцмана. Скоро она подыщет еще что-нибудь и тогда пришлет все вместе...
Анне казалось, что сердце от радости вот-вот выпрыгнет из груди, она радовалась песням, которых еще не знала, но предчувствовала, что, независимо от того, придутся они ей по душе или нет, она их все равно обязательно споет и запишет. Уж слишком деловым и не оставляющим никаких сомнений был тон писем Качалиной. И именно в этом деловом, лишенном сентиментальности тоне больше всего нуждалась Анна. С ней говорили не как с жертвой, не как с человеком, требующим сострадания, а как с деловым партнером, как с артистом, в графике которого практически нет пауз...
Анна не предполагала, что день окончательного снятия гипса принесет ей не только радость, но и печаль. И хотя прекрасный специалист, мягкий, сердечный человек Рышард Павляк аккуратно и мастерски при помощи ножниц освобождал Анну из гипсового плена, она чувствовала, что у нее нет сил управлять успевшими привыкнуть к долгой неподвижности конечностями. А может быть, не удалось "починить" позвоночник и теперь она обречена на неподвижность, которая станет ее спутником до самой смерти? Врачи убеждали ее, что после такой тяжелой катастрофы все идет нормально. Только надо запастись терпением и ждать. Но сколько ждать? Год, два, пять лет? На этот вопрос ответа не существовало. Но что значит для певицы ждать, что значит вообще для человека ждать? Заболевший инженер хоть и отстанет от стремительно развивающейся науки и техники, потом (в зависимости от своего прилежания) в состоянии догнать время и наверстать упущенное. Это относится к людям многих профессий. Даже драматический артист может найти себе другие роли. А вот певица... Век певицы так короток! Моды быстро меняются. И вчерашние любимцы публики сегодня становятся никому не нужными...
Писем, которые раньше приходили в огромном количестве, полгода спустя заметно поубавилось. Исключение составляли письма из СССР. Все такие же сердечные и доброжелательные.
Один из санитаров, руководствуясь добрыми чувствами, как-то сказал Анне:
- Что-то вы залежались! Вас теперь совсем не передают. Старые песни всем надоели. Пора, пани Анна, новые учить. Вот вы, как Марыля Родович, сможете?
- Это как же? - заинтересовалась Анна.
- Колоссально! - восторженно ответил санитар и поднял вверх указательный палец. - Сейчас все в Польше от нее стонут, такие шлягеры Марыля выдает! Все остальные - вчерашний день.
- И я, значит, тоже... вчерашний день? - потерянно улыбнулась Анна.
- Я не хотел вас обидеть, - осторожно сказал санитар. - Просто, понимаете, сейчас молодежь совсем другая и песни сейчас другие.
После этого разговора Анна долго плакала. Пришла Ирма. Теперь Анна лежала в другой больнице, в Константине. Здесь матери не разрешали оставаться на ночь, здесь Анну должны были учить заново садиться, двигать руками и ногами, ложиться, вставать, держаться во весь рост, делать первые шаги... Больница была оборудована превосходным, сложным инвентарем. Анна с интересом и нетерпением ждала, когда наконец специалисты приступят к первым занятиям.
Как пришла мысль написать книжку? Тогда ли, когда, посмотрев на листки бумаги, приготовленные для ответа на письма, она вдруг подумала: "А что если заготовить один-единственный ответ для всех, попробовать рассказать о себе, о том, как нелегко давались мне уроки музыки, о своих первых и о своих последних шагах?" А может быть, после одного разговора? Давний знакомый, журналист Яцек, побывав у нее в больнице, посоветовал: "Ты бы, вместо того чтобы здесь вылеживаться, взяла бы да написала о себе! О том, что ты видела, особенно в Италии. Интерес к тебе по-прежнему велик. Тебе, я думаю, найдется о чем рассказать. А если что, я подправлю..."
Написать книгу о себе. Это было заманчиво. И в то же время страшно. Писать Анна любила. Ей нравилось поздно ночью, после концерта, завернувшись в плед, писать родным, Збышеку, друзьям или Анечке Качалиной. К письмам она относилась, как к литературному труду - писала не наспех, что в голову придет, а вдумчиво, подыскивая слова, стараясь придать письму литературную форму, напоминающую короткий рассказ...
Итак, писать книгу! А, собственно говоря, какое у нее право рассказывать миллионам людей о себе? Кому это интересно? А главное, нет ли в этой затее привкуса саморекламы: вот, дескать, попала певица в катастрофу, лежит, закованная в гипс, и выжимает слезы у сентиментального читателя. От одной этой мысли ее передернуло. Меньше всего Анна хотела, чтобы ее жалели! Больше, чем когда-либо, она нуждалась в поддержке! Она взялась за перо с противоречивым чувством.
Писать, чтобы отвлечься от страданий? Чтобы быть "при деле"? Писать, чтобы твой рассказ был интересен для всех, даже для тех, кого мало волнуют проблемы искусства и мир эстрадных звезд? Наконец, писать, не будучи уверенной, что твоя рукопись когда-нибудь увидит свет?.. Она вдруг отчетливо представила себе лица скептиков в варшавском литературном кафе на Краковском предместье. Вот один, за чашкой кофе, ворчит себе под нос: "Мало у нас графоманов, так еще одна решила заработать на собственном увечье..."
Конечно, не случись с ней всего этого, вряд ли у нее появилась бы мысль об автобиографической книге. Но сейчас ей хотелось, чтобы эту книгу поняли правильно: она станет ответом на многие письма, которые приходили и приходят к ней отовсюду. И если уж ей больше не придется петь, если она не сможет больше появиться на сцене - пусть книга станет ее исповедью...
Первые страницы шли тяжело: ощущалась какая-то внутренняя скованность. Каждое слово давалось с трудом. Первые страницы показались ей слишком женскими, жалобно-плаксивыми. Она разорвала их и начала писать все сначала. Впервые она на самом деле забыла, что большая часть ее тела еще находится в гипсе. Анна снова погрузилась в мир юности, когда энергичная рыжеволосая Янечка силой потащила ее во Вроцлавскую эстраду...