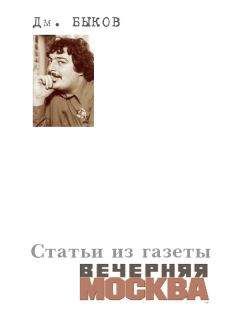Леонид Леонов - Статьи военных лет
Мы напрасно предавались мечтам. Вместо политического — мы попали на уголовный процесс кучки проходимцев, которых гораздо раньше застукали бы на мокрых делах, если бы фашизм не возвёл их на недосягаемые высоты власти. Да и то, адвокаты стали выяснять, имеет ли суд дело с идиотами или негодяями, так как в первом случае требуется особое бережное отношение к их персонам. Как зачарованные смотрели мы на этих людей в мундирах цвета хаки и старались угадать, есть ли у них сердце, и, может быть, чем чорт не шутит, даже дети, подобные тем, что лежат сейчас в песках Бельзена и мёртвых глинах Освенцима. А, кажется, так понятна разница в сущности явлений, убит ли один или убиты и вдобавок ограблены единым махом двадцать шесть миллионов душ. Преступление не становится благодеянием, будучи повторено миллионы раз. В диалектике этого вопроса разбирается у нас рядовой колхозник, её сможет разъяснить любой комсомолец, не посвященный в тайны высшего юридического образования. Тут-то мы и задумались. «Эге-ге, — сказали мы друг другу, переглянувшись. — Жутковато делается за будущность земных жителей, когда на нетерпеливую людскую совесть наваливается тушей толстая судейская книга в свином переплёте».
Никто из нас не сомневался, разумеется, в джентльменстве этих беспристрастных служак закона, — тем более, что всё равно не удастся им выгородить т а к о е преступление. Но только уж где бы, казалось, джентльмену и клясться в преданности добру и в ненависти к злу, как не на могилах мучеников, погубленных фашизмом. Тем более, что Германия так «удачно» распределила лагери уничтожения по лицу Европы, что теперь каждая самая немногочисленная нация имеет в своём распоряжении такие величественные и страшные алтари… Словом, Люнебург не выдвинул гражданского истца от имени человечества. Куда там! О муках жертв, которых заставляли перед смертью есть кал и запивать человеческой кровью, говорили с зевотой как о краже демисезонного пальто. Клятва не состоялась. Медленно и уныло текут воды Ильменау. Я сказал одному судебному чиновнику, которого заинтересовало моё мнение о процессе, что солдаты решали это дело проще и умней на поле боя; до него не дошло. Тогда я прибавил, что джентльмен, который слишком долго разговаривает с убийцей, может повредить себе репутацию. Он улыбнулся литературной гладкости афоризма. Тут-то и порешили мы сбежать из Люнебурга, несмотря на отменное хозяйское хлебосольство. Всё равно, даже родившиеся час назад не опоздают на процесс в Люнебурге!.. Нас потянуло в Дрезден, куда в прошлом веке ездили именитые российские литераторы на поклон древним камешкам Европы.
Пришельцы из отсталой, ещё крепостной страны, чувствуя себя чужаками на возделанной германской почве, они трепетно проходили по знаменитым галлереям, часами созерцали молитвенную целеустремлённость готики, на которую сыплется сейчас мелкий осенний дождичек, и слаще ароматов наших первоснежных раздолий был им затхлый воздух германских книгохранилищ. Скромные мы люди! Не мало общечеловеческих святынь создал наш народ в те годы, а зёрна многих других раскидал по свету, нимало не заботясь о признаньи своего авторства… но русским свойственно уважать чужие святыни, зачастую — в ущерб своим. Ещё совсем недавно иные из нас испытывали на чужбине благоговение вместо гордости за то, что все эти роскошества ума и сердца, глаза и души созданы были за широкой спиной их собственного народа, пока тот в трёхсотлетнем бою отбивал свирепый натиск азиатских вторжений… Зато именно в те далёкие времена окрепла наша исконная становая сила — та, что родится из неколебимой любви к родимым пространствам, усеянным дедовскими костьми, свежеполитым отцовской и братней кровью. Без этого чувства невозможно существовать народу. Мерилом высоты такого чувства должна служить та духовная и вещественная польза, которую приобретает в целом общечеловеческая семья от любви данного народа к своей земле.
Русские, даже дерясь за себя, дрались тем самым за свободу мира, ибо в эту сторону устремлена была народная правда; немцы, крича о надмирном человеческом духе, думали о своей личной, бюргерской сытости. У нас возникла идея всемирного братанья, у них — всемирного порабощенья. Мы дарили людям имена Чернышевского и Ленина, они в те же самые сроки выпускали на мир Бисмарка и Мольтке. Немец в военной форме — губитель и садист, горе малютке на его пути, — таким мы его узнали в последние пять лет. Русский солдат даже в помрачении справедливой ярости никогда не станет мстить ребёнку за деяния его отца!.. Стоит только посмотреть по сторонам автострады, по которой, под мелким осенним дождичком, мы мчимся в Дрезден. Отяжелевший от сырости дым стелется из фабричных труб, неповреждённые шагают в тумане мачты высоковольтных передач, благодетельные свет и тепло струятся в их медных, непорванных жилах, ребятишки выглядывают из школьных окон. А вспомним руины Донбасса и щебёнку Пулкова, каменные скелеты индустриальных наших великанов, которых мы всенародно растили целых три пятилетки. Нет, мы великодушны, Германия! Вся твоя восточная территория исхожена сапогами нашей пехоты, промерена гусеницами наших танков, но, ворвавшись хозяевами в твои пределы, мы не отплатили тем же, не отнимали источников жизни, не подымали на воздух электростанций, не рубили столбов связи толовыми поясками, не резали шпал специальными гнусными машинами, не затопляли шахт, не закладывали мин замедленного действия в стены твоих школ и больниц.
Правда, города Германии сохранились несколько хуже. Так выглядят рожи неисправимых драчунов. Они теперь все похожи друг на дружку: Дрезден — на Франкфурт, Кельн — на Берлин. Я помню эту гордую столицу лет двадцать тому назад, — её отполированные улицы, где могли линчевать за брошенный окурок, помню берлинских полицаев, шупо, казавшихся родственниками Юпитера, — многоэтажный универмаг Вертгейма, набитый соблазнами, как огурец семенами, — помню кавалькады амазонок в аллеях Тиргартена… Не тот стал Берлин, не те немцы. Хватит на десяток лет вывозить мусор с площадей, а шупо похожи на скорбных пьеро в балахонах больничных служителей, а в витринах Вертгейма выставлен скрученный швеллер вперемежку с битым кирпичом, а заплаканные амазонки продают у развалин рейхстага мужнины штаны да «уры» с цепками. Мы посетили также гамбургский порт, этот рот Германии, которым она круглосуточно принимала пищу со всего мира, полный теперь железных мертвецов, чёрных от фосфорных бомб и застывших с поднятыми кранами, в том положении, как их застигло возмездие… Нет, мы глядели на это без злорадства: щебёнка ещё носит след человеческого труда, и слёзы всех народов сродни по своему химическому составу.
Так кто же виноват, Германия, что Гитлер проиграл твои вековые сокровища в пятилетие? Ты приманила войну к своим границам, думая, что этого адского пса можно безнаказанно натравливать на любую из окрестных стран. Ты пожелала восточного пространства, и восточное пространство само пришло к тебе. Если по памятникам страны можно судить, что хранит она в памяти и куда направлена её государственная идея, то оглянись на свои площади, Германия. Мы видели сотни этих истуканов, королей и полководцев, обвешанных приборами человекоистребления, и даже одного упитанного архиерея с казацкой пикой и верхом на битюге. И чем позднее отлит истукан, тем откровенней замысел бюргера. «На штурм мира!» В немецких журналах искусств можно видеть, какой скульптуркой, в случае победы, украсила бы себе Германия вид из окна. Тут и голые девицы с короткими ножами, музы убийства вроде Ирмы Грезе, купальщики в шлемах и с фомкой под мышкой и, наконец, мыслители, мучительно раздумывающие, как бы им половчей присвоить богатства соседа… Теперь вся эта смешная медь — в трещинах и дырах, чтобы хорошенько проветрилась застоявшаяся там чванливая дурость. — Уцелевшие Гёте и Гумбольдт с презрением смотрят на ничтожество потомков со своих постаментов.
Вот какая тысячелетняя мокрица жила в каменном кружеве этих обольстительных архитектурных сооружений; впрочем, её давно угадывали некоторые из прозорливцев нашей старой литературы. Так откуда же вывелось это паскудное насекомое? Ежели в средние века для получения блох рекомендовалось набить опилками бутыль и, залив жидкостью погаже, поставить в тепло, то какие же строительные материалы пошли на образование такой дурацкой и опасной идеи о всемирном немецком господстве? Единственный путь объяснения общественных явлений — способ ленинской науки; моя задача — хотя бы наспех показать моральную подготовку единичной немецкой особи, какого-нибудь бюргера с Фазанен-штрассе, к безумиям 33—42 года, когда обозначился, наконец, финис фашизму. Это он с риском апоплексии орал «хайль» фюреру, он посылал своих отпрысков на Волгу за поживой, — это он пытается теперь пролить крокодилью слезу у врат разрушенного райха. Что именно, — может быть, теснота и обнищанье толкнули беднягу на чреватый путь военного грабежа? Нет. Мне понятна брезгливая ярость наших войск, когда они вошли на постой в немецкие квартиры. Они увидели уютное гнёздышко в семь комнат, забитое комфортабельным барахлом. С недоверчивым удивленьем они трогали эти самосветящиеся во тьме штепселя и хитроумные приспособления для ставень, закрываемых изнутри, тискали заветную кнопку, которая на расстоянии открывает калитку. Бюргер жил на пределе материального благополучия, когда, поддавшись желанию ещё большего, он ринулся за Вислу грабить белорусского мужика. Вот как выглядит в наши дни сказка о разбитом корыте. Солдат советской оккупационной зоны увидел на примере, что бывает, когда богатства нации скапливаются в руках немногих: они обращаются в жир, который дурит и душит страну, и она в бешенстве бросается на соседей грызть им горло, и тогда её бьют по чему придётся, пока не присмиреет…