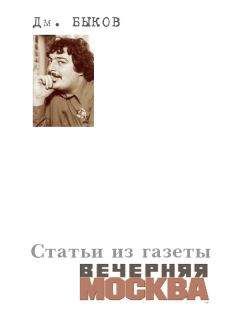Леонид Леонов - Статьи военных лет
Цифра эта, конечно, почти ничтожна в сравненьи с миллионными гекатомбами Майданека и Освенцима. Ещё десятки таких тайников раскопают со временем на пространствах Германии. Ничто уже не может умножить греха Германии перед миром, равно как ничем нельзя увеличить и презренья мыслящего мира к гитлеровской Германии… К тому же бельзенская система морального и физического истребления давно знакома советскому читателю по прежним описаньям. Ализариновые чернила и человеческая речь бессильны передать длительное ощущенье душевной отравленности, полученное нами при посещении этого гиблого места. Сам Дант не рассказал бы больше, если б его послали сюда корреспондентом… Нет, кровь и пепел — плохая палитра для художника, который хочет глядеть в будущее; в таких случаях лучше всего слово предоставлять к а т ю ш а м. Но никогда не следует нам выметать из памяти, как сор, воспоминания об этих несчастных, — как лежали они вповалку в своих промёрзлых бараках, без стона, без надежды, без жалобы, одичавшие, высушенные голодом так, что почти не пахли после смерти, — и как подымали их в глухую ночь на «проверку», и они стояли под команду «смирно» от трёх до девяти, — и как текло длинное зимнее время, достаточное для сумасшествия, — и как упавших добивали кольями или рубили им головы заступами, как тыквы, и так было, пока холодное зимнее солнышко не прерывало этой утренней зарядки палачей…
Лагерем заведывал Иозеф Крамер, гауптштурмфюрер бычьего веса и внешности, ныне сидящий в десяти шагах от нас. Восточная Европа и моя Родина также имеют право на жизнь этого эрзац-человека. Если даже при огромной норме смертности в Бельзенском лагере всё же осталось четыре тысячи русских, сколько же всего закопано их в белых сыпучих бельзенских песках!.. Кроме того, свою тренировку в этой области Крамер начинал в Освенциме, и имя его особо упоминается в актах нашей Чрезвычайной Комиссии. В Бельзене он проработал всего полгода, и только потому механизация смерти и производство покойников не были поставлены на освенцимскую высоту. Конечно, к трём его орденам Гиммлер подкинул бы и четвёртый, если бы Красная Армия своевременно, взятием Берлина, не обрубила головы фашистской Германии, а шестьдесят третья противотанковая английская батарея не ворвалась за колючую проволоку Бельзена.
Пресса всего мира называет Крамера чудовищем; это неверно. Такое слово заключает в себе понятие исключительности, достойной удивленья. Крамер был не один в Германии, их было не сто, даже не тысяча. В Германии было налажено серийное их производство. Этому теперь не надо удивляться, это надо изучать, чтобы предотвратить их вторжение в мир в будущем. Нет, Бельзенский лагерь есть обыкновенное в Германии явление, как и сам Крамер есть просто скотина в чистом её естестве, бившая сапогом в живот русских женщин, скотина безжалостная и хитрая. Писать о ней вполне противно, и полагается скорее давить её в двойной, для надёжности, петле, но прежде следует назвать ту страшную яму, откуда этот зверь вылез на белый свет.
В опустошительных прогулках по лагерю его обычно сопровождала постоянно сменявшаяся часть его гнусной оравы, куда входили мужчины и женщины, убийцы с учёными дипломами европейских университетов и просто даровитые в данной области самоучки. Мы достаточно читали о них и от многих из этой нечисти великодушно избавили планету. Перо советского журналиста имеет более почётные и срочные темы в разорённой и пошатнувшейся Европе, чем создание портретной галлереи даже выдающихся некрофилов и громил. Но эти экземпляры нордической расы являются образцами социального вещества, из которого была построена фашистская Германия, и потому полезно хотя бы нескольких из них рассмотреть в пристальную лупу художника.
По женщине, по её облику и морали, по её месту в обществе можно судить, наравне с другими признаками, о физическом и нравственном здоровье государства. Это ей поручила природа величайшее дело рожденья и первичного воспитанья своих завтрашних граждан. И вот перед нами девятнадцать женщин, застигнутых на преступленьях, на которые не способно и животное. Возьмём лишь трёх этих современных германских «героинь», из которых самой старшей — Жоане Борман — пятьдесят два, а самой молодой, Ирме Грезе, только двадцать один год.
Первая из них — проворная, без единого седого волоса, обезьянка, решившая на склоне лет послужить своему фюреру. Родства с нею устыдился бы сам паскудный немецкий чорт. С её тёмного лица, кажется, ещё не сошёл загар от крематорнои печки, у которой любила постоять эта скромная домохозяйка, слушая, как скворчит и пузырится там человеческое жарево. Она не убивала сама, она лишь сортировала одежду бельзенских жертв, ещё тёплую от владельцев, пока те бились в корчах и синели под душевыми кранами газовой камеры. Она также сортировала женщин, отбирая слабых на газовую смерть, а привлекательных — в публичные дома для немецких солдат. Её единственной слабостью было потравить волкодавами какое-нибудь занумерованное человеческое существо, уже неспособное к бегству, уже непригодное в лагерном хозяйстве. О, стоит только представить себе, как пошлёпывала детишек эта тихая немецкая бабушка, отправляя их в крематорий… Вот гаснет свет в зале суда, и на крохотный экран ложится вещественное доказательство обвиненья, двадцатиминутный фильм, где запечатлён, так сказать, в поученье потомкам, апофеоз древней германской культуры. Незабываемые картины подсмотрел армейский киноглаз тотчас по освобождении Бельзенского лагеря. Происходят торопливые похороны тринадцати тысяч трупов, уже утративших человеческое подобие и с чёрными впадинами, — это ножами из консервных банок выкраивали себе пищу одичалые бельзенские людоеды. Мордатые эсэсовцы и их грудастые марухи таскают на себе, ухватясь за шею или ногу, раскорякие мёртвые тела своих жертв, — с одуревшими глазами, в изнурительном поту они таскают их без конца в длинный, неописуемый овраг, и кажется, что трупным запахом наполняется зал суда. Могучий английский буллдозер, снегоочиститель, сгребает распадающееся людское месиво, и похоже — мёртвые шевелятся всяко и привстают, чтобы их навеки запомнили живые… Потом опять — внезапный электрический свет, и видно всем, как украдкой зевает старушка Борман, тёмной грешной своею лапочкой прикрывая рот. Бабушка скучает. Какова выдержка этой старушки даже на очной ставке с мертвецами!
Почти рядом с нею сидит под номером девятым такая молоденькая и уже такая подлая Ирма Грезе. Это крестьянская дочь из Тюрингии, прошедшая нацистскую школку. Иностранные журналисты, богато представленные на процессе, наперебой раскричали её как «хорошенькую белокурую бестию». Мягко говоря, такое определение страдает легкомыслием и даже попросту плохо в профессиональном отношении. Маску зверя они приняли за человеческое лицо. Благообразность Ирмы ещё ужаснее явного уродства всех этих косоглазых дегенератов и человеко-рысей с подпаленной шерстью. Это горгона, загримированная под Гретхен, самая лютая в лагерях Бельзена и Освенцима, где она долгое время заведывала одним из смертных цехов. Недовольная старинными способами уничтожения, имея вкус к делам такого рода, она изобретала новые виды казней. Её брови сведены, намертво стиснуты губы: её водянистые, воспалённые и навыкат глаза, как бы набухшие ужасными виденьями, смотрят подолгу и не мигая, как наведённый пистолет. Наверно дети падали замертво под этим взглядом. Она брезгливо улыбается, когда слишком уж добросовестная защита вступает в длинное препирательство с судьями о приглашении каких-то учёных знатоков международного права, словно совести сидящих здесь почтенных английских генералов недостаточно для изобличения преступления.
Когда её уводят из здания суда в тюремный грузовик, кто-то из этих приличных, лакированных немцев, шпалерами стоящих вдоль улицы, кричит ей:
— Боишься, Ирма?
И она роняет сквозь зубы:
— Нет.
Нашим юристам было бы гадко выступать защитниками в процессе такого рода. Защите было бы более к лицу лишь помочь судьям разобраться в обстоятельствах преступленья и прежде всего — начертать перед миром родословную пещерной мерзости, искалечившей души этих когда-то человекоподобных существ. В Люнебурге защита действует иначе и, надо признать, без особого блеска. Она находит в себе решимость расспрашивать свидетельницу, еле стоящую на ногах, о приметах собаки, которая рвала ей тело, или о длине и весе дубины, которою ей почти перерубили руку.
— Не могу сказать… я её только чувствовала, — еле слышно отвечает жертва.
Нет, видимо, есть над чем улыбаться Ирме Грезе в Люнебургском процессе!
Между этими двумя сидит Герта Элерт. Едва взглянув в глаза суду, вся помертвев, она валится с ног, полагая, что с ней сейчас станут делать то самое, что делала она сама, когда к ней вводили очередного бельзенского узника. Вот улика!.. Кроме Бельзена, она хорошо потрудилась в Равенсбруке, в Майданеке и Освенциме. Ее отёклое лицо бледно, словно она наелась трупятины; в нём особо запоминается длинный, от уха до уха, рот, который изредка сводит судорога зевоты. Жаба показалась бы творением Фидия в сравненьи с этой тварью… Словом, матери мира, благодарно улыбнитесь солдатам Объединённых наций, что охранили ваших малюток от этих белокурых зверей!