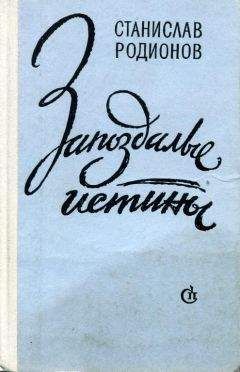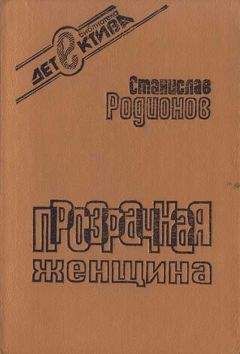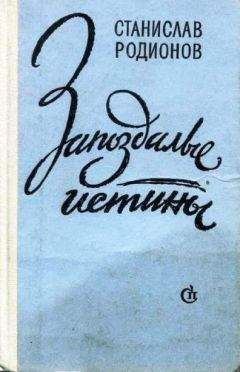Иван Родионов - Наше преступление
– Да... – протянул становой, – вот два года с ним служу и просто руки отваливаются. Выследишь мерзавцев, посадишь, а как к нему дело попало в руки, конец, сейчас же выпустит, а потом путает, путает и все дело на нет сведет.
Становой махнул рукой и так сладко зевнул, что даже в челюстях у него затрещало, а на глаза навернулись слезы.
XVIII
В тот же день вечером следователь снял допрос с арестованных парней; прямых улик против них не нашел, однако привлек их в качестве обвиняемых и даже мерою пресечения избрал содержание под стражею, потому что в городе распускались о нем такие слухи, которые могли повредить ему по службе. Его называли революционером, в деревнях же из уст в уста ходила молва, что он за взятки «освобождает» преступников.
Настроение арестованных все-таки нельзя было назвать угнетенным. Им давали теплый угол, кормовые деньги, работать не заставляли, спали они сколько каждый хотел. Деньги, ограбленные у Ивана, они не успели пропить на воле и теперь пропивали вместе с городовыми, приносившими им тайком водку.
Только Рыжов, возвратившись опять в арестный дом после допроса у следователя и зная, что завтра их переведут в тюрьму, видимо, пал духом: в разговор с товарищами не вступал; хитрая, самодовольная усмешка сбежала с его лица; искрящиеся глаза померкли.
На товарищей он был зол и для этого имел достаточное основание: парни при дележке ограбленных денег обошли его совсем, не дав ему ни гроша.
Ночью парни крепко спали, запертые на замок в вонючей, грязной каморке с единственным пробитым под самым потолком и затянутым прочной железной решеткой оконцем того типа, какие делаются обыкновенно в конюшнях.
Рыжов лежал с краю нар рядом с Сашкой, подложив под голову свой «спинжак», но глаз не сомкнул. В эти последние дни он вообще спал плохо. С одной стороны, ему было жаль ни в чем неповинного Ивана и совесть иногда укоряла его; с другой – его страшило таскание по судам и предстоящая тюрьма или каторга. Свое участие в преступлении он считал меньшим, чем участие остальных товарищей, а потому находил себя и менее виновным. Он помнил хорошо, что поначалу ему и в голову не приходило бить Ивана; наоборот, он даже хотел предупредить его о грозившей опасности, и как потом вышло, что он вместе с другими совершил преступление, Рыжов понять не мог.
«Что скотину били»,– вспомнил он об избиении Ивана. Собственно, он никогда и не забывал о нем. Ужасная картина избиения постоянно стояла перед его глазами. «А подбили на такое дело эти арестанцы. Рази сам я пошел бы на такое озорство? Шутка сказать, загубить хрестьянскую душу, Господи помилуй! И за што? Какое худо ен мне сделал? Никакого худа я от его не видал. А дивья, пьяного подбить на какое хошь худое дело? На все подобьешь. Хошь отца родного зарезать и то подобьешь, потому пьяный, што сшалелый, правильного рассуждения не имеет, а вот теперича отвечай, выкручивайся, как знаешь».
От таких размышлений Рыжову стало как будто легче, потому что он нашел некоторое оправдание своей вины перед самим собой, однако внутренний голос укорял его, зачем же он давал руку Сашке в знак согласия? Ведь от него зависело принять или прямо отклонить предложение парня.
«Не согласись, так и стакана вина не поднесли бы, – оправдывал он себя. – Да я и не давал согласия. Это уж так на мое горе вышло...
Рыжов тяжело вздохнул и долго лежал, вперив взгляд в окно, в которое глядела ровная, темная осенняя ночь.
На сердце налегла невыносимая тяжесть; голова слегка побаливала. Рыжов с тоской ожидал утра, но ему казалось, что ночи и конца не будет. Ум устал от бесплодных мыслей, которые толкались в голове, как мышь, попавшая в мышеловку.
И он притих; угомонились и мысли, но внутренняя бессознательная работа мозга продолжалась.
Он не помнит, дремал ли или просто лежал в забытьи, но, взглянув снова в сотый раз в окно, он заметил, что хотя ночь по-прежнему была непроницаема, но не так черна, как прежде; она поседела.
«Утро близко», – сказал себе Рыжов и весь внутренне встрепенулся.
Голова его заработала деятельнее и бодрее.
За стенами с трех сторон храпели арестованные и сторожа, храпели парни; откуда-то донесся хриповатый, неумелый крик молодого петушка.
Внезапная мысль осенила голову Рыжова.
Он привскочил и сел на нарах.
– Да меня силом заставили бить. Не по своей воле пошел я на такое дело! – прошептал он и долго сидел, ослепленный этой мыслью.
«Ежели бы я отказался, – продолжал он оправдывать себя, – они и меня бы заодно убили. Им што? – с ненавистью подумал Рыжов о товарищах, – им што цыпленка, што человека зарезать, все едино. Арестанцы, арестанцы и есть».
И ему стало до слез жаль себя за то, что связался с такими негодными людьми. Тому, что еще до принуждения он бил Ивана наравне с товарищами, Рыжов уже совершенно добросовестно не придавал никакого значения, а всеми своими мыслями сосредоточился на том моменте, когда он просил парней не убивать Ивана, и как они угрозами заставили его продолжать избиение, а он обманул их и гвоздил камнем по земле. Эти последние два поступка он ставил себе в заслугу.
«Вот какие арестанцы! Ежели бы они меня тогда послухали, Ванюха выходился бы, уж я заверное утверждать могу, что выходился бы, а теперича кто е знает... Такими камнями да топором по голове... не-е не выживет... Рази Бог только...
Но скоро и на этот предмет мысли его переменились... «А што как Ванюха выживет и на меня покажет, что я убивал его вместе с ими, с арестанцами? Все равно, отвечать придется». Рыжов задумался.
«Бог с им, – через минуту сказал он себе, – пущай помирает. Видно, уж так ему на роду написано такую смерть принять...
Он опять опрокинулся на нары и, вздохнув, заложил руки за голову. Теперь он уже был уверен, что вины за ним нет никакой, и ему стало жаль себя. Он почувствовал, как слезы накипали у него в горле и наконец хлынули из глаз. Он для чего-то порывисто перевернулся животом вниз, и долго дергались от рыданий его плечи и голова.
– Што ж, Бог терпел и нам велел... потерплю за напрасно... за этих арестанцев... Пущай...
Когда Рыжов выплакался, ему стало легче и на душе отраднее. В окне уже белело; неясно виднелись на фоне неба часть крыши и труба соседнего дома, а из города доносилось переливчатое пение петухов.
Примиренный с своей совестью, Рыжов в грустно-спокойном настроении помаленьку забылся.
XIX
пал он в первый раз после избиения Ивана крепко и сладко, но часа через полтора порывисто вскочил.
В коморке было совсем светло, и проснувшиеся парни вполголоса переговаривались между собой.
Это разом возвратило Рыжова к тягостной действительности. В сердце у него больно защипало, и товарищи стали ему еще более ненавистны, чем прежде. Сашка сидел рядом с ним с протянутыми на голых нарах ногами и обслюнивал скрученную из газетной бумаги цигарку.
– Ну што, Федор, как почивал на казенной кватере? Хорошо?
– А почему не хорошо?! Люди так-то по целым годам живут и ничего, – мрачно и уклончиво ответил Рыжов, не поднимаясь с своего места и скользнув ненавистным взглядом мимо толстого, заспанного лица Сашки, с красными глазами, угрюмо, насмешливо глядевшими исподлобья.
– А я так здорово выспался на казенных пуховиках, братцы, – своим медлительным голосом продолжал Сашка, не слушая Рыжова, закусив конец цигарки зубами и пряча кисет с табаком в карман штанов.
– Ничего... хорошо... на работу вставать не надоть... Выспаться можно всласть... – отозвался, потягиваясь, Ларионов.
Этот парень так же, как и Рыжов, никогда не питал к Ивану никакого враждебного чувства и свое участие в убийстве тоже приписывал опьянению. «Пьян был... – говорил он Рыжову, – вот и впутался в это дело... ежели бы был тверезый, не впутался бы...». С ним при избиении Ивана случилось то же, что бывает с собакой, которая, заслышав злобный лай соседок, сперва прислушивается, потом поднимается, опрометью бросается на прохожего и принимается рвать его так же ожесточенно, как и ее товарки. Оставаясь наедине с самим собою, Ларионов трусил и страшился предстоящего судебного возмездия и хотя временами жалел Ивана, но больше жалел себя. Совесть же совсем не беспокоила его. Зато в присутствии Сашки и других двух главных соучастников преступления он всецело поддавался их настроению и чувствовал себя таким же удалым и преувеличенно-беззаботным, как и они.
– Не робей, робя... – не сразу снова заговорил Сашка, желая ободрить товарищей и пыхнул цигаркой, потом вынул ее изо рта, выпустил дым и неторопливо продолжал: – Посидим денька три, много четыре, а там выпустят, потому против нас нет свидетелев...
– А Иван Демин – не свидетель? – отозвался Рыжов.
От злости ему хотелось, во что бы то ни стало, перечить Сашке.
– А чего Ванька может? Чего? Ён землей заклялся. Это, брат, не шутка. Да не-е... Ён побоится. А других свидетелев нету...