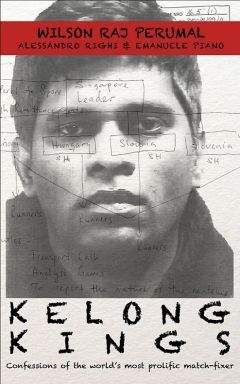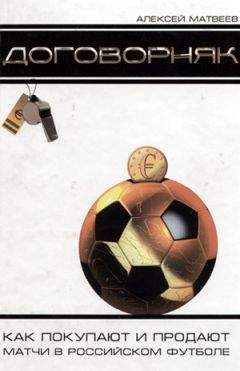Наоми Кляйн - No Logo. Люди против брэндов
Как заметила Дженис Ньюсон, профессор социологии Йоркского университета, много печатавшаяся по этому вопросу: «На первый взгляд легче найти причины все более реальному существованию, связанному с крупными корпорациями университета, чем причины отсутствия сопротивления этому». Ньюсон, которая вот уже больше десяти лет бьет тревогу по случаю корпоративной угрозы научной свободе, пишет, что держалась посылки (впрочем, ложной), что:
члены университетского сообщества будут активно озабочены этой переменой направления, если вообще не будут сопротивляться ей. Ведь за относительно короткий период времени выявились существенные, если не сказать радикальные, институциональные изменения, происходящие в учебных заведениях. И во многих отношениях эти перемены состоят в резком контрасте и с идеей, и с практикой того университета, что был до них, — того университета, где большинство нынешних членов академического сообщества начинали свою карьеру.
Этот упрек вполне можно адресовать и студентам-активистам, которые вплоть до середины 90-х годов таинственно отсутствовали на «не-дебатах» о корпоратизации. Как это ни грустно, но отсутствие мобилизации на кампусе отчасти объясняется простым личным интересом. До середины 90-х возрастающее влияние корпораций в сфере образования и научных исследований существовало почти исключительно на технических факультетах, отделениях менеджмента и в научных лабораториях. Университетские радикалы всегда были склонны сбрасывать со счетов эти факультеты как безнадежно скомпрометированные бастионы правого крыла, и кому, в конце концов, какое дело до того, что происходит по ту сторону кампуса, покуда традиционно более прогрессивные области (литература, культурология, политология, история и искусства) оставлены в покое? И пока профессорам и студентам искусств и гуманитарных наук этот радикальный сдвиг в академической культуре и приоритетах был безразличен, они были вольны преследовать другие интересы, а их выбор велик. Например, немалое число этих занимающих пожизненные должности левых, которые должны были бы растлевать юные умы социалистическими идеями, были заняты своими постмодернистскими рассуждениями о том, что сама истина есть мысленная конструкция. Эти рассуждения сделали несостоятельным для многих ученых мужей даже простое участие в каком бы то ни было политическом споре, темой которого было бы «преимущество одной модели обучения (публичной) над другой (корпоративной)». И поскольку истина относительна, кто возьмется утверждать, что Платоновы «Диалоги» более «авторитетны», чем «Анастасия» компании Fox?
Однако эта модная академическая тенденция объясняет отсутствие на поле боя только немногих из пропавших без вести. Многие другие университетские радикалы были не прочь вступить в старую добрую политическую борьбу, но в критические годы корпоративного нашествия на кампусы они были заняты в другой баталии — всепоглощающих дебатах о тендерных и расовых проблемах — в так называемых войнах за политическую корректность. Как мы увидим в следующей главе, если студенты позволили превратить себя в испытательный рынок, то это потому, что у них на уме было совсем другое. Они были слишком заняты атаками на своих профессоров по вопросам целесообразности существующих канонов и необходимости ужесточения законов против сексуальных домогательств. А если их профессора не сумели предотвратить то, что сам принцип ничем не стесненной свободы научного обсуждения променяли на наличный доллар, то это могло случиться потому, что они тоже были заняты другим — защищались от своих собственных студентов-маккартистов. Вот так вот все они и ругались — о проблемах женщин в современном обществе и о последней реакционной книге, а в это время прямо у них на глазах распродавали их родные кампусы. И только тогда, когда политика личного представительства была заимствована брэндингом, студенты и профессора начали отказываться от ссор друг с другом, понимая, что у них теперь есть мощный общий враг.
Но многое уже было потеряно. Не только несколько уже устаревшее понятие «чистого» образования и научного исследования, а нечто более фундаментальное: коли уж учебные заведения (заимствуя фразу у Флоридского университета) «притворяются корпорациями», то потерянной оказывается сама идея не тронутого брэндингом пространства. Во многих отношениях школы и университеты остаются в нашей культуре самыми ощутимыми воплощениями общественного пространства и коллективной ответственности. Особенно университетские кампусы — они, с их общежитиями, библиотеками, «зелеными» зонами и общими для всех стандартами открытых и взаимоуважительных дискуссий, играют жизненно важную, пусть уже во многом и символическую роль: это единственное сохранившееся место, где молодые люди могут видеть, как проживается настоящая общественная, публичная жизнь. И какой бы несовершенной ни была в прошлом оборона этих учреждений, на нынешний момент нашей истории аргументация против превращения образования в полигон по расширению брэндов по большей части та же, что и аргументация за сохранение национальных парков и природных заповедников: эти квазинеприкосновенные места напоминают нам о том, что чистое, не тронутое брэндами пространство еще возможно.
Глава пятая. Патриархи становятся фанками
Что уж тут говорить — если тебе посвящают целую полосу в журнале Friends, трудно, как раньше, считать себя левым.
Джей Блотчер, деятель борьбы со СПИДом, журнал New York, сентябрь 1996 г.В конце 80-х — начале 90-х я была из числа тех студентов, кто далеко не сразу отозвался на постепенное брэндирование университетской жизни. Могу сказать по собственному опыту: дело не в том, что мы не ощущали все более заметного присутствия корпораций на кампусе, — нет, мы даже иногда выражали недовольство. Просто как-то руки не доходили. Мы знали, что сети фаст-фуд устанавливали свои прилавки в библиотеке, а преподаватели прикладных наук очень уютно пристраивались к фармацевтическим компаниям, но чтобы в точности узнать, что происходило на совещаниях совета попечителей и в лабораториях, следовало побегать, а нам, честно говоря, было недосуг. Мы спорили о том, допускать ли евреев на пленум по расовому равенству в женском центре кампуса и почему собрание для обсуждения этого вопроса было назначено на то же время, что и пленум лесбиянок и «голубых» — видимо, организаторы подразумевают, что среди евреек не бывает лесбиянок? Черных бисексуалов не бывает? Во внешнем мире политические проблемы расы, пола и сексуальности по-прежнему были привязаны к конкретным и безотлагательным вопросам, таким, как равная оплата труда, юридическое признание однополого брака и насильственные действия полиции, и эти серьезные движения представляли — и представляют — реальную угрозу существующему экономическому и политическому порядку. Но на многих университетских кампусах они как-то не казались достаточно яркими студентам, для которых политические вопросы личностной принадлежности вылились к концу 70-х в нечто совсем другое. Многие из наших баталий происходили по проблеме «представительства каких-то-там меньшинств» — не очень четко выраженного набора обид против большей частью средств массовой информации, учебной программы и английского языка. Кампусные феминистки, спорящие о том, насколько женщины «представлены» в списке литературы для обязательного чтения; «голубые», желающие быть лучше «представленными» на телевидении; рэп-звезды, похваляющиеся тем, что «представляют» гетто; вопрос, заканчивающийся беспорядками в фильме Спайка Ли 1989 года «Поступи как надо» (Do the Right Thing) — «Почему на стене нет наших братьев?», — таков был вопрос нашей политики, политики отражений и метафор.
Эти проблемы всегда стояли на политической повестке дня и движения за гражданские права, и женского движения, а позже и борьбы со СПИДом С самого начала признавалось, что среди факторов, удерживающих женщин и представителей этнических меньшинств на заднем плане, есть и отсутствие заметных образцов для подражания, занимающих полномочные общественные позиции, и что увековечиваемые прессой стереотипы, встроенные в самую ткань языка, служат тому, чтобы укреплять, причем не слишком изощряясь, главенство белого мужчины. Для того чтобы происходил реальный прогресс, воображение обеих сторон должно было быть освобождено от колониального сознания.
Но к тому времени, когда мое поколение унаследовало эти идеи, дважды или трижды сменив убеждения, «представительство меньшинств» уже не было больше одним из многих инструментов — оно стало ключевым. В отсутствие ясной юридической или политической стратегии мы относили почти все проблемы общества на счет прессы и учебной программы — они либо увековечивают негативные стереотипы, либо просто замалчивают проблемы. Азиатов и лесбиянок они заставляли чувствовать себя незаметными, на «голубых» навешивали ярлык «извращенцы», на черных — «потенциальные преступники», на женщин — «слабые и неполноценные существа». Все это они и накаркали, и от этого сейчас происходит почти все «неравенство» реального мира. Наши поля сражений были комедийными сериалами с соседями-гомосексуалистами, которых никто никогда не укладывал в постель; с газетами, полными изображений пожилых белых мужчин; с журналами, продвигавшими, по терминологии писательницы Наоми Вульф, «миф о красоте»; со списками литературы для обязательного чтения, которые должны были, на наш взгляд, выглядеть, как реклама компании Benetton, делавшая наши требования к спискам литературы для обязательного чтения тривиальными. О, как были мы, дети века массовой информации, возмущены узостью и деспотизмом изображения образов в журналах, в книгах и на телевидении; так возмущены, что убеждали себя: если изменятся типажи и тенденциозный язык — реальность изменится тоже. Мы думали, что обретем спасение в реформировании MTV, CNN и Calvin Klein. А почему бы нет? Коли СМИ, как нам казалось, суть источник столь многих наших проблем, то, если нам только удастся «совратить» их, чтобы они нас лучше представляли, уж, наверное, они нас и спасут? Когда станут точнее наши коллективные зеркала, тогда повысится наша самооценка, а все предубеждения отпадут, как по волшебству, — общество ведь захочет соответствовать тому прекрасному и достойному отражению, в которое мы заретушируем его образ.