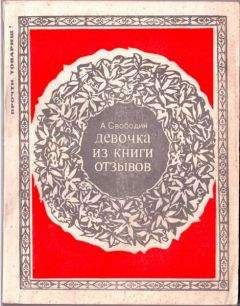Александр Свободин - Откровения телевидения. Составитель и редактор А.П.Свободин
Однако довольно иносказаний — речь идет о многосерийном телевизионном спектакле «31-й отдел», поставленном по роману шведского писателя Пера Вале на Ленинградской студии телевидения режиссером Ю.Аксеновым. Жанр романа, напечатанного у нас журналом «Молодая гвардия», — социальный детектив, или, скорее, социальная фантастика. А вернее — то и другое вместе. Автор прослеживает тенденции развития буржуазного общества в сфере духовной культуры. К этим тенденциям он относится резко критически…Уже через две-три минуты вы понимаете, что дело серьезное, уже сама среда интерьера неподдельна и безусловна, уже сам исполнительский стиль отмечен той высшей, чрезвычайно выразительной естественностью, которая несомненный признак высокого актерского профессионализма. Все актеры из одного театра — из Ленинградского Большого драматического имени М.Горького. Е.Копелян, О.Басилашвили, В.Стржельчик, Н.Трофимов, М Волков, Л Макарова, 3.Шарко. Имена громкие. Однако само по себе это еще ни о чем не говорит. Важнее другое: несомненно, что для всего этого актерского коллектива работа над телеспектаклем не была временным явлением, она была частью их главного в жизни общего дела, подчеркиваю, общего, то есть связанного с именем, школой и знаменем их театра, известного и в своей стране и в Европе.
Чуть забегая вперед, совершенно необходимо сказать о том, что отношение товстоноговцев к телевидению — это просто образец творчества, которому всякая новая возможность, всякое новое поприще чрезвычайно полезны. То, что сделали актеры Большого драматического на телеэкране — несомненная ценность нашей художественной культуры, ценность столь же очевидная и бесспорная, как и те знаменитые театральные спектакли, о которых уже написаны сотни статей и десятки монографий. Во всяком случае, если составлять послужной список достижений Ефима Копеляна, то роль полицейского Иенсена безусловно и с полным правом может проходить по разряду настоящих вершин, превосходящих к тому же иные сценические и кинематографические пики. Это была роль, определившая успех всего спектакля. Задавшая ему тон. Ставшая ключом к пониманию социального замысла и романиста и режиссера.
Итак, комиссар шестнадцатого участка Иенсен. Он смотрит на вас с экрана. Смотрит и молчит. Он вообще почти всегда молчит, что оказывается весьма кстати в его профессии полицейского — его молчание озадачивает людей, и потому они хотят высказаться до конца, чтобы быть понятыми, чтобы избежать недоразумений, чтобы все стало ясно, — комиссар Иенсен умеет слушать. Так вот он молчит и смотрит на вас — взглядом долгим и протяженным, как хорошо взятая певцом нота; этот взгляд, в отличие от самого комиссара, весьма красноречив, он говорит об одиночестве, о жизни по инерции, о привычке ничему не удивляться и о той неистребимой человечности, которая выжила несмотря ни на что — несмотря на профессиональную обязанность копаться в мерзостях и механический стереотип бытия с его обилием кнопок и переключателей.
Комиссар Иенсен получает сложное дело. Сложное и щепетильное, поскольку объект действия — не какая-нибудь ограбленная галантерейная лавка; нет, дело касается кругов, по расхожему выражению, интеллектуальных: самому большому в стране журнальному концерну, издающему сто сорок четыре иллюстрированных еженедельника, занимающему самый большой в стране, огромный, как город, тридцатиэтажный дом, — этому концерну угрожает аноним. Он предупреждает о том, что в здании заложена бомба с часовым механизмом. Невинные не должны пострадать. Все необычно в этом деле, все кроме самой угрозы, быть может, выдержанной в достаточно нарочитых, словно бы из криминальных романов вычитанных выражениях. Иенсена в этой столь непривычной и неудобной обстановке — не забудьте, что в последнее время он занимался в основном пьяницами, пьянство в этой благополучной стране — национальный порок и преступление — спасает, как ни странно, стереотип его полицейского поведения.
Комиссар шестнадцатого участка делает то, что он обязан делать: ходит, смотрит, встречается с разными людьми, задает вопросы; словом, в этой странной среде машинизированных идей и запрограммированных чувств Иенсен остается нормальным человеком, способным нормально удивляться и нормально любопытствовать. Нормально наблюдать. Это основная функция комиссара на экране, и в ней Копелян добивается исключительной психологической точности и достоверности. Это ведь лишь сначала кажется, что наблюдательность комиссара профессионально бесстрастна: через некоторое время мы уже понимаем, сколь сложные чувства томят Иенсена, они приходят друг другу на смену, они противоречат друг другу и, что хуже всего, противоречат послушной полицейской добросовестности, — а ведь рождены-то они на свет как раз в процессе педантичного хладнокровного следствия.
Самое замечательное в том, что вся эта нарастающая гамма противоречий показана нам как бы исподволь, точнее сказать, мы догадались о ней, ибо артист ничего не играл — ни терзаний, ни смятений — он четко выполнял конкретные задачи, а мы наблюдали за ним, постигая постепенно, какой кризисный перелом совершается сейчас в душе полицейского чиновника, привыкшего повиноваться «высшему» порядку вещей. Вот Иенсен изучает журналы концерна, огромную пачку отлично изданных глянцевых еженедельников, и во взгляде его, долгом и внимательном, медленно возникает разгорающееся недоумение: эти журналы при всем своем внешнем блеске совершенно безжизненны, они стерильны, как марля или гигиенический раствор. Ни крупицы мысли, ни тени сомнения, ни грана того, что может вызвать какие-либо активные чувства. Вот Иенсен ждет, пока один из шефов концерна (его играет Олег Басилашвили) выпишет ему временный пропуск, и снова в глазах полицейского мелькает странная догадка: он понял, что человек, в руках которого вся печатная продукция страны, страдает самой пошлой алексией — проще говоря, не способен логически связать на бумаге трех слов. А вот комиссар шагает по бесконечным коридорам концерна, по бесчисленным кругам этого автоматизированного ада, здешний Вергилий — охранник, вопреки традиции крадется сзади, и взор комиссара, по-прежнему протяженный и непрерывный, отмечен предчувствием того, что в «Датском королевстве», очевидно, кое-что не так, ибо в 31-й отдел, упоминавшийся в разговоре, оказывается, не ведет ни одна дверь.
Я уже говорил, что все провода спектакля «замкнуты» на Копеляне. Практически это значит, что он на экране всегда. Что он держит в руках концы всех сюжетных нитей. Что он — то самое увеличительное стекло, с помощью которого мы рассматриваем узлы и сцепления странного и безумного мира… Такая задача сама по себе очень сложна, стоит один раз потерять ритм — и никакая интрига сюжета не спасет представление от вялости и лени. Однако такая великолепная четкость и собранность, сделавшие бы честь любому актеру, для Копеляна разумеются сами собой, он идет значительно дальше — он достигает поистине габеновской безусловности, достоверности состояний, и в этом, быть может, главная эстетическая ценность спектакля: один лишь вид этого озабоченного, озадаченного человека доставляет вам высокое наслаждение. Потому что мы наблюдаем жизнь человеческого духа. Оказывается, это самое поразительное на земле зрелище. Ибо, постигая чужую душу, мы познаем свою — в этом замечательное чудо искусства и его необыкновенная притягательная сила.
Я уверен, что в способности активно переживать искусство всегда есть нечто детское — наивное и одновременно трогательное: вы видите человека на вашем малом экране, вы следуете за ним по пятам, и вот в какой-то момент бессознательно и по-детски безоглядно вы начинаете отождествлять себя с этим человеком. Его сомнения становятся вашими, а впрочем, быть может, наоборот, это вы наделяете его своими мыслями, его элегантно завязанный галстук кажется вам вашим собственным галстуком, и вообще эту обаятельную романтическую усталость вы ощущаете сейчас на своем лице.
Так бывает не часто. Потому что одного лишь лицедейского таланта мало актеру для того, чтобы зритель невольно ощутил себя на его месте, — тут нужна особая мера подлинности и особое умение привлекать сердца.
Ефим Копелян — актер очень человечный. Он не улыбчивый «шармер», не простодушный добряк, он, скорее, суров и озабочен, но в его озабоченно сведенных бровях заметно серьезное отношение к жизни, то самое, жить с которым труднее всего. А каждая морщина говорит о том, что долгие думы оставляют на наших лицах весьма зримые следы.
Тут уместно, быть может, позволить себе небольшое отступление на тему о сегодняшнем понимании актерского обаяния. Вкратце следует сказать так: экранные критерии во многом приблизились к реально житейским. Представьте себе, что на вашем телеэкране в качестве героя спектакля предстанет Рудольфе Валентино. Боюсь, что этот роковой красавец, сводивший с ума наших бабушек, не удостоится ваших симпатий. Он покажется вам просто смешным — со своим сверкающим, как крышка рояля, зачесом, с гладкими щеками и отрешенным взором черных очей. И напротив, актер, в лице которого отразились как будто бы все тревоги и заботы нашего сложного века, невольно располагает к себе. Эстетика безмятежных красавцев вызывает насмешки (режиссеры, не понимающие этого, попадают со своими героями впросак). Сердцами владеет эстетика людей беспокойных, озабоченных, внутренне богатых и непростых.