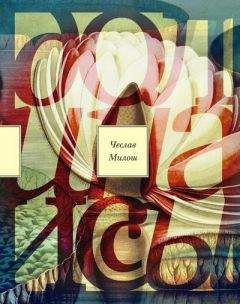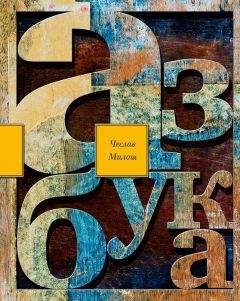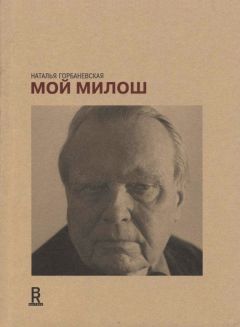Чеслав Милош - Порабощенный разум
Разразилась война, наш город и страна стали частью империи Гитлера. Пять с половиной лет мы жили в измерениях совершенно иных, чем все, что можно было знать из какого бы то ни было опыта или из литературы. То, что дано было нам увидеть, превосходило, я бы сказал, самое смелое и самое кошмарное воображение. Известные нам прежде описания ужасов заставляли теперь смеяться, как наивные и детские рассказы. Немецкая оккупация в Европе была жестокой, но нигде не была такой жестокой, как на Востоке: потому что на Востоке обитали расы, которые согласно доктрине национал-социализма заслуживали полного истребления или использования для тяжелой физической работы.
Однако же мы жили и, поскольку мы были писателями, старались писать. Правда, то и дело кто-то из нас исчезал, увезенный в концлагерь или расстрелянный. С этим ничего нельзя было поделать. Мы были как люди на льдине, которая постепенно тает. Не следовало думать о той минуте, когда она растает полностью. Военные сводки содержали данные о нашем соревновании со смертью. Мы должны были писать: это был единственный способ уберечься от отчаяния. Кроме того, вся страна была охвачена сетью конспирации и действительно существовало в ней «подпольное государство», почему же не должна была существовать также подпольная литература. Печатание журналов и книг на языке завоеванной нации было запрещено. Тем не менее культурную жизнь не удалось задавить. Подпольные публикации печатались на гектографе или нелегально издавались в форме журналов, брошюр и книжек малого формата, которые легко распространять. Организовывалось множество подпольных лекций и авторских вечеров. Были даже подпольные театральные представления. Все это поднимало нравственный дух завоеванной, но продолжающей бороться нации. Нравственный дух был высокий, немножко даже слишком высокий, как это доказали события в конце войны[63]. Альфа в течение этих лет успешно осуществил свой идеал писателя — нравственного авторитета. Его поведение было поведением образцового писателя-гражданина. Его суждения о том, как надлежит поступать и как не надлежит, считались в литературных кругах своего рода приговорами оракула.
К нему часто обращались с просьбой, чтобы он решил, не преступил ли кто-то принципы неписаного патриотического кодекса. Благодаря такому молчаливому признанию он стал кем-то вроде вождя всех писателей в нашем городе. Ему шли деньги из подпольных фондов, и он распределял эти деньги между нуждающимися в помощи коллегами; в конспирации он был посвященным высокой степени; он покровительствовал начинающим писателям; он осмелился публично не подать руки единственному в Варшаве писателю, который согласился сотрудничать с немцами, поступив на службу в немецкую издательскую фирму. Он был инициатором и соредактором подпольного литературного журнала[64], экземпляры которого, печатаемые на машинке, передавались поочередно «клубам», собирающимся тайно, и там читались вслух. Его позиция была подлинным гуманизмом. Уже до войны он открестился от своего праворадикального патрона[65], который провозглашал необходимость ввести в Польше собственный тотализм (в первый же год оккупации этот человек был расстрелян гестапо). Когда немецкие власти приступили к систематическому уничтожению трехмиллионного еврейского населения Польши, антисемиты не считали нужным чрезмерно огорчаться; вслух они осуждали это зверство, но потихоньку многие из них думали, что оно не совсем уж необоснованно. Альфа принадлежал к тем жителям нашего города, которые реагировали на массовые убийства резко; он боролся пером против равнодушия других и сам оказывал помощь укрывающимся евреям, хотя за помощь евреям грозила смертная казнь.
Он был решительным противником национализма, который нашел в Германии такое кошмарное воплощение. Это никоим образом не значит, что он склонялся к коммунизму. Количество коммунистов в Польше всегда было незначительно, а сотрудничество русских с немцами после пакта Молотов-Риббентроп создало условия, особенно неблагоприятные для деятельности сторонников Москвы. Коммунистическое подполье было слабое. Надежды масс населения обращены были к Западу, а «подпольное государство» было зависимо от эмигрантского правительства в Лондоне[66]. Альфа, всегда чувствительный к нравственному мнению окружающих (его чувствительность можно сравнить с чувствительностью барометра), не мог относиться с симпатией к стране, которая почти ни в ком не рождала дружественных чувств. Как большинство его друзей, он хотел далеко идущих социальных реформ и народовластия.
Я встречался с Альфой часто. Я не слишком преувеличил бы, сказав, что годы войны мы провели вместе. Вид Альфы подымал дух; наперекор всему он улыбался, держался небрежно и — чтобы подчеркнуть свое презрение к подкованным сапогам, мундирам и воплям «Heil Hitler» — носил зонтик. Его высокий рост, худощавость, иронически блестевшие глаза в очках и та важность, с какой он шествовал по улицам города, в котором безумствовала чума террора, делали его фигурой, противоречащей законам войны. Случилось как-то, что мы возвращались после визита к нашему общему другу, который жил в деревне[67]. Насколько я припоминаю, мы спорили, каким поездом ехать; мы решили ехать ближайшим, хотя хозяева рекомендовали поезд, отходивший на полчаса позже. Мы приехали в Варшаву и шли по улицам довольные жизнью; это было погожее летнее утро 1940 года. Мы ничего не знали о том, что этот день будет записан как черный день в истории города. Едва я вернулся к себе и закрыл за собой дверь, я услышал на улице крики. Я выглянул в окно, там шла облава. Это была первая большая облава до времен Освенцима. В Освенциме позже уничтожили несколько миллионов людей из разных стран Европы, но тогда этот концентрационный лагерь был только в зачатке. Из первого большого транспорта людей, схваченных в тот день на улицах, кажется, никто не остался в живых. Альфа и я прошли по улицам за пять минут до начала облавы; зонтик и беспечность Альфы приносили счастье.
Эти годы были испытанием для каждого писателя. Действительный трагизм событий далеко превосходил воображаемые трагедии. Тот, кто не мог найти выражения для общего отчаяния и общей надежды, тот стыдился, что он писатель. Существовали уже только элементарные чувства: страх, боль по поводу утраты близких, ненависть к поработителям, сочувствие к страдающим. Альфа, талант которого искал трагедии действительной, а не воображаемой, почувствовал в руках материал и написал ряд рассказов, которые составили книгу, изданную после войны; книга эта была переведена на многие языки. Суть всех рассказов можно определить как верность. Не зря Конрад был любимым автором юношеских лет Альфы. Это была верность чему-то, не поддающемуся названию в человеке, но могучему и чистому[68]. До войны Альфа был склонен называть этот нравственный императив по-католически. Теперь он боялся фальши, он утверждал только, что этот императив существует. Когда его умирающие герои обращали свой взор к молчащему небу, они не могли там прочесть ничего, кроме надежды, что их верность, может быть, опирается на какой-то мировой принцип и что этот мировой принцип не совсем бессмыслен и не чужд нравственным стремлениям человека. Нравственность героев Альфы была мирская — с вопросительным знаком, с паузой, но эта пауза не была еще верой[69]. Я думаю, что Альфа был более честен в этих рассказах, чем в своих предвоенных произведениях. В то же время он с большой силой выражал состояние сознания тех бесчисленных бойцов подполья, которые гибли в борьбе с нацизмом. Почему они бросали на весы свою жизнь? Почему принимали пытки и смерть? У них не было точки опоры ни в любви к фюреру, как у немцев, ни в Новой Вере, как у коммунистов. Сомнительно, верило ли большинство из них в Христа. Стало быть, только верность — верность тому, что называли отчизной или честью, тому, что было сильнее, чем названия. В одном из рассказов Альфы[70] юноша, которого пытают жандармы и который знает, что будет расстрелян, выдает своего друга, потому что боится умирать один. Они встречаются перед расстрелом, и выданный прощает выдавшему. Это прощение не может быть оправдано никакой утилитарной этикой; нет оснований прощать предателям. Если бы этот рассказ писал советский автор — выданный отвернулся бы с презрением от человека, который поддался позорной слабости. Отойдя от католицизма, Альфа стал писателем более христианским, чем прежде, если принять, что этика верности есть продолжение христианской этики и что она противоположна этике общественных целей.
Во второй половине войны в «подпольном государстве» возник серьезный кризис политического сознания. Подпольная борьба с мощью оккупантов влекла за собой большие жертвы, количество расстрелянных и уничтоженных в концлагерях все увеличивалось. Доказывая необходимость жертв только верностью, разум не мог избежать сомнений. Верность может быть основанием для индивидуального решения, но там, где речь идет о решениях, касающихся судьбы сотен тысяч людей, верности недостаточно, разум ищет рациональных целей. Какими ж могли быть эти цели? С востока приближалась победоносная Красная Армия. Западные армии были далеко. Во имя какого будущего, во имя какого порядка умирали ежедневно молодые люди — этот вопрос задавали себе многие из тех, задачей которых было поддерживать моральный дух других. Никто не мог дать ответ. Иррациональные мечты, что случится нечто такое, что задержит наступление Красной Армии, а одновременно свергнет режим Гитлера, да еще апеллирование к понятию чести «страны без Квислинга»[71]. Это не было достаточно надежной опорой для более трезвых умов. В этот момент начали действовать подпольные коммунистические организации, к которым присоединились некоторые представители левого крыла социалистов. Программа коммунистов была гораздо лучше обоснована, чем программа «подпольного государства», зависимого от Лондона; Польша, как это уже было ясно, освобождена будет Красной Армией. С ее помощью нужно осуществить революцию.