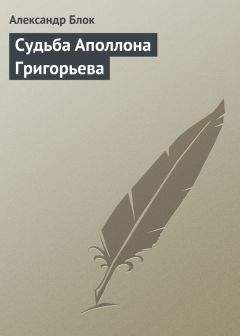Александр Блок - Том 7. Дневники
10 октября
Люба продолжает относиться ко мне дурно. Днем — у мамы, она больная и без прислуги. Там — тетя и Ольга Александровна Мазурова.
Разговоры по телефону. Вечером у Ремизова. Серафима Павловна, сестры Терещенко. Серафима Павловна видела в Мюнхене А. Белого. Она говорит, что он не изменился. Эллис ей неприятен. А. Белый враждебен Сабашниковой, которая живет при Штейнере как при старшем брате только, живет потому, что измучена жизнью, больше, чем потому, что — Штейнер…
11 октября
Утром — няня Соня. Днем немного занимался оперой. После обеда пришел М. И. Терещенко, сидел со мной два часа. Вот о чем мы говорили:
Он в отчаянии и сомневается в своих силах, думает, что все, что он делал до сих пор, — дилетантство. Прямо из университета попал в театр, а теперь, когда (в апреле) все это кончилось, чувствует, что начинается жизнь и надо делать наконец — что, не знает. Приблизительно — так.
Были они с Ремизовым в Москве; о студии Станиславского: актерам (молодым по преимуществу) дается канва, сюжет, схема, которая все «уплотняется». Задавший схему (писатель, например) знает ее подробное развитие, но слова даются актерами. Пока — схема дана Немировичем-Данченко: из актерской жизни в меблированных комнатах (что им, предполагается, всего понятнее!). Также репетируют Мольера (!), предполагая незнание слов: подробно обрисовав характеры и положения, актерам предоставляют заполнить безмолвие словами; Станиславский говорит, что они уже почти приближаются к мольеровскому тексту (узнаю его, восторженный человек!). -Студия существует на средства Станиславского, и он там — главный. Терещенко предлагает мне поехать туда вместе в начало ноября — посмотреть.
Со студии перешли на общий разговор. Об искусстве и религии; Терещенко говорит, что никогда не был религиозным и все, что может, думает он, давать религия, дает ему искусство (два-три момента в жизни, преимущественно — музыкальных). Я стал в ответ развивать свое всегдашнее: что в искусстве — бесконечность, неведомо «о чем», по ту сторону всего, но пустое, гибельное, может быть, то в религии — конец, ведомо о чем, полнота, спасение (говорил меньше, но все равно — схемой, потому поневоле лживо). И об искусстве: хочу ли я повторить или вернуть те минуты, когда искусство открывало передо мной бесконечность? Нет, не могу хотеть, если бы даже сумел вернуть. Того, что за этим, нельзя любить (Любить — с большой буквы).
Терещенко говорил о том, что искусство уравнивает людей (одно оно во всей мире), что оно дает радость или нечто, чего нельзя назвать даже радостью, что он не понимает людей, которые могут интересоваться, например, политикой, если они хоть когда-нибудь знали (почувствовали), что такое искусство; и что он не понимает людей, которые после «Тристана» влюбляются. Со всем этим я, споря, не спорил, как часто это мне приходится делать; а именно: я спорил, потому что знал когда-то нечто большее, чем искусство, т. е. не бесконечность, а Конец, не миры, а Мир; не спорил, потому что утратил То, вероятно, навсегда, пал, изменил, и теперь, действительно, «художник», живу не тем, что наполняет жизнь, а тем, что ее делает черной, страшной, что ее отталкивает. Не спорил еще потому, что я «пессимист», «как всеми признано», что там, где для меня отчаянье и ужас, для других — радость, а может быть — даже — Радость. Не знаю.
Уходя, Михаил Иванович дал мне срок три недели для окончания оперы.
Он не верит драматическому театру, не выносит актерского духа, первое слово со сцены в драме коробит его. Пришло, думает он, время соединять, а как — не знает. Едет в студию — учиться.
Все это оставило во мне чувство отрадное — весь разговор, также частности его (о «Ночных часах», о Ремизове), которых я здесь не записал.
Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной. Будущее покажет…
Мне, однако, в разговоре с Любой удалось, кажется, определить лучше, что я имею против модернистов.
Стержень, к которому прикрепляется все многообразие дел, образов, мыслей, завитушек, — должен быть; и должен он быть — вечным, неизменяемым при всех обстоятельствах. Я, например, располагаю в опере все, на что я способен, вокруг одного: судьбы, неудачника; по крайней мере в христианскую эпоху, которой мы современники, это величина постоянная. Если же я (или кто другой) буду располагать все многообразие своих образов вокруг Рока и Бога греческой трагедии, то я буду занят чем-то нереальным, если захочу это показать другим. Сам я, может быть (мало вероятно), могу проникнуть в Ανανκη, Μοιρα[60], Олимп, но я и останусь один, а вокруг меня будет по-прежнему бушевать равнодушная к богу эпоха.
О модернистах я боюсь, что у них нет стержня, а только — талантливые завитки вокруг пустоты. Люба хорошо возражает: всякое предыдущее поколение видит в следующем циников, нигилистов, без стержня. То же было и с нами. Может быть, я не понимаю. Может быть, и у них есть «священное». Будущее покажет.
12 октября
Днем — опера. Перед обедом у мамы. И вечером — эти удивленные черные глаза и минута влюбленности. Известие о смерти И. А. Саца.
13 октября
Днем у меня — Георгий Иванов. Обедал у мамы с Любой и Женей. Женя сообщил о смерти Александра Сергеевича Андреева — через адресный стол правление дороги узнало, что он умер в марте.
Люба купила у старьевщика вазу — красно-розовую с белыми украшениями и фигурами, на дне — герб Голенищевой-Кутузовой (есть у Селиванова).
14 октября
Вчера на ночь чтение Апулея нагнало дурную тревогу. Тяжелый сон. Сегодня — нервный день. Днем Аля Мазурова у Любы. Вечером у меня Вася Гиппиус.
15 октября
Утром Городецкий прислал «Иву» с письмом. Письмо от Сытина. Пришла О. М. Мейерхольд. Пяст, совсем расстроенный, рассказывает, что было с ним на Финляндском вокзале 7-го октября (секрет). Пошли с ним в почтамт, а потом — к Красному мосту — заказали мне куртку… Вечером я у мамы. «Италианская комедия» от Вл. Н. Соловьева (он заходил и не застал).
16 октября
Ночью — острое чувство к моей милой, маленькой бедняжке. Не ходит в свой подвал, не видит своих, подозрительных для меня, товарищей — и уже бледнеет, опускается, долго залеживается в постельке по утрам. Ей скучно и трудно жить. Скучно со мной тоже. Я, занятый собой и своим, не умею «дать» ей ничего.
Утром — опера, набросал вчерне 1-й акт. Перед обедом у мамы, у которой был доктор. Маме плохо. Долго лечить эту болезнь. Еще одна кухарка выгнана. Маленькая собака — непоседа. Боюсь, что будет неприятного характера.
Обедает тетя, которая «навещала» Гарри Блуменфельда, издерганного нервами. Этот модернизм в связи с мазуровским вырождением производит впечатление все более тяжкой путаницы.
Вечером я в кинематографе. Разговоры по телефону с Ремизовым и Терещенко. Письмо от М. Аносовой. Трудно, но надо ответить. Завтра — год, как я пишу систематически дневник. Не много приятного было в это время.
Милая моя спит, записываю ночью, воротясь. Спи, милая, голубушка, если бы я мог тебе помочь.
17 октября
Занятие оперой с тяжелым чувством — что-то не нравится, чего-то не хватает. Во всяком случае — кончать скорей, там будет видно.
В 4 часа приехали Терещенко и Ремизов, поехали кататься. Острова и Стрелка уже в мягком снегу, несказанное есть.
Секрет пока ото всех: издательство, которое устраивают сестры Терещенко. Нанята уже квартира на Пушкинской, деньги будут платить как лучшие издательства, издавать книги дешево, на английской бумаге. Русские, по возможности. Хотели купить «Шиповник», разоряющийся (главный пайщик застрелился), но слишком он пропитан свода, дымовско-аверченко-юмористическим.
Вечером мы с милой в цирке Чинизелли. Она повеселее. Устали, пьем вместе чай, воротясь.
Мертвый я, что ли?
18 октября
Опера. Днем — прогулка. Вечером — я в религиозно-философском собрании. Струве читал доклад Одинцова о Серене Киркегоре, написанный бездарно. У Киркегора есть интересные, хотя и слишком психологические и путаные места об «эстетиках» (мужеского рода). Потом возражали Мережковский (прекрасное у него было лицо) и Карташев.
Зинаида Николаевна. Много народу — тетя, Каблуков, Пришвин, Княжнин, Сюннерберг.
Аггеев, Философов, Александра К Чеботаревская…
Сидели с Женичкой, который произвел скандал с моим шуточным письмом к нему, замешав в него Руманова. Поправил дело, но, кажется, боюсь, Руманов обиделся.