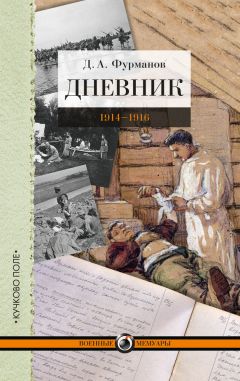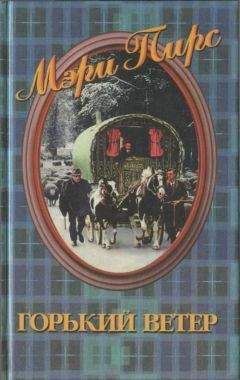Дмитрий Мережковский - Невоенный дневник. 1914-1916
Никогда еще государство не было так подобно церкви, как в наши дни. Каждая национальная церковь хочет быть вселенской, и каждое национальное государство тоже. Эта мировая война и есть война государств национальных за государство всемирное.
Церковь — самое огненное из чудес; государство — «самое холодное из чудовищ». Государство — оборотень церкви.
Государство сделалось церковью, — оттого-то и не может понять современный человек, насквозь государственный, что такое церковь.
Тут хитрость дьявола: он загнал Бога в самый темный, тайный угол души человеческой, чтобы завладеть сначала всем остальным миром, а потом и душой человеческой, потому что ей все-таки некуда уйти из мира. И, судя по тому, что сейчас происходит в мире, хитрость эта удалась или почти удалась: Бог — «частное дело» (Privât Sache) каждого человека в отдельности, а общее дело всего человечества в лапах дьявола. Каждый в одиночестве спасается, а все вместе гибнут. И если так дальше пойдет, то можно сказать с уверенностью: никто не спасется.
Одна причина ухода человечества из церкви — религиозный индивидуализм, порожденный реформацией, то, что происходит внутри культуры; другая причина — то, что происходит внутри самой исторической церкви.
«Все недвижное, не творящее истории еще подвластно, по инерции, церкви; но все творчески-живое, передовое, носящее на себе печать молодости и таящее в себе залог будущего не может поместиться в церковь и выходит из нее». «Духовный разрыв с церковью идет по линии вопросов, известных каждому культурному человеку. Всякий знает, что он не находит в церкви удовлетворения своему разуму, своей свободе, своему творчеству и освобождению общественному». «Причина этого разрыва не в одном грехе и своеволии человечества, но и в требовании высшей религиозной истины. Все приобретения человеческого сознания в истории, все углубление и обновление стоящих перед ним философских, социальных и религиозных задач не может быть им оставлено, забыто по существу. Этих вечно растущих требований человеческого духа нельзя у него отнять ни священными угрозами, ни священными ласками».
«В церкви иссякло пророчество. Она обескрылела под абсолютною властью священства, стала вся целиком старообрядческой, утратила радость буревестника, летящего впереди огня, палящего старую землю и старое небо. В церкви осталась, слезами умиления и восторга напоенная, радость примирения с тленным и преходящим образом мира сего, но радости творческого разрушения и созидания в ней нет. И люди идут в церковь поплакать в горе или радости, творить же идут в открытые поля, под солнечный купол небес, и там вдыхают живительный воздух пророческой эсхатологии» (откровения о последних судьбах мира).
«Если так, то что же сдвинет церковь с места?»
На этот вопрос отвечают последние страницы книги, воистину огненные, пророческие, небывалые в русской литературе со времен Чаадаева. Надо прочесть целиком эти страницы; жалко вырывать из них отдельные слова, отдельные звуки этой великолепной симфонии. Слова записанной речи — ноты несыгранной музыки. Но те, кто слышал речь Карташева, никогда ее не забудут. Художественная красота, алмазная ясность, алмазная твердость, может быть, ее наименьшее достоинство; может быть, слушатели даже совсем не увидели этой красоты, как жаждущие не видят красоты сосуда, из которого пьют.
«Человеческое сердце, пророческое по преимуществу, — вот вечный, неиссякаемый ключ всех религий и всяческого религиозного творчества. Итак, в церкви должно воскреснуть пророчество», — отвечает Карташев на вопрос об исполнении церкви. В душе человеческой не иссяк источник пророчества. «Церковь только проглядела, куда оно ушло». Духом пророческим «сейчас дышит все человечество внецерковное и внерелигиозное». «Без религии человечество перестраивает землю, созидает новый мир и чувствует, что здесь с ним, в этом творческом порыве благодать будущего». Не иссяк источник пророчества. «Он ширится и несется бурным потоком, выбившись из берегов церкви… Надо его слить со встречным церковным томлением о пророчестве. Надо приемник пророчества у церкви вскрыть, чтобы и там оно загремело о том же, о чем гремит в человеческих душах».
«Итак, — заключает Карташев, — религиозных чаяний человечества не могут удовлетворить никакие реформы и реформации церквей, а также никакое недвижное стояние на камне Петровом» — на камне священства. «Только на крыльях пророческой благодати духа, дышащего в мире, где он хочет, через опыт всех церквей, через исторический подвиг всего культурного человечества, через рассеянный одинокий религиозный опыт, даже через опыт всех религий люди соединятся в лоне единой, воистину вселенской церкви, которая приведет их к порогу царства Христова на земле. Тогда смутные чаяния человечества и молитвенное устремление церкви сольются воедино в чудесном исполнении».
«Вы ищете чего-то нового в церкви, но в какой же? В пределах православной церкви или за ее пределами?» — этот вопрос предложен был Карташеву одним из слушателей, католическим священником.
На прямой вопрос надо ответить прямо. Карташев отвечает уклончиво. Тут у него опять та неясность, недосказанность, о которой я уже говорил: смешение или недостаточное разделение двух смыслов в слове «церковь», — может быть, единственная мутная и слабая точка во всей речи, но именно здесь и не должно быть слабости; здесь должна быть твердость непоколебимая, ибо точка эта и есть точка опоры для того рычага, которым идея церкви поднимается и вдвигается в историю.
«Невозможно увидеть лицо еще не рожденного младенца», — оправдывает Карташев эту неясность. Лицо младенца нерожденного увидеть нельзя, но лицо матери можно. Кто же мать грядущей церкви вселенской? Одна из церквей исторических или все они вместе, или же, наконец, внецерковная стихия человечества? Карташев этого не знает и не хочет знать. Он отвечает нерешительно: «Пророческое творчество в церкви как будто мыслится переливающимся за грани канонической дисциплины (власти священства). Как будто рисуется внешний раскол, новое вероисповедание». «Как будто» — этого достаточно для мысли, но не для воли; для созерцания, но не для действия.
Власть священства в церкви абсолютна. Надо ли восстать на эту власть во имя пророчества? «Как будто» надо, отвечает Карташев. Но с таким ответом кто же восстанет? Тут, как во всех вопросах воли, — а без воли какое же творчество — не должно быть сомнений. Тут или — или. Пока есть «как будто», нет воли, нет действия.
«История скорее всего навевает ожидание трагедии, а не идиллии», — продолжает Карташев сомневаться. Неужели только «навевает»? Неужели сейчас в истории, в той мировой катастрофе, которая происходит на наших глазах, только веяние, а не ураган? Неужели можно еще сомневаться, что это: «идиллия» или «трагедия»?
«В церкви должно воскреснуть пророчество». Легко сказать! Но ведь Карташев знает, что священство и пророчество «антиномичны в религии», непримиримы. Потому-то историческая церковь и лишилась духа пророческого, что священство в ней возобладало над пророчеством. «Пророк священнику страшен своим духом». Он чует в нем «беса». «В этом человеке бес», — доныне говорит священник о пророке, как сказано было некогда о Том, Кто больше всех пророков.
«Надо приемник пророчества у церкви вскрыть, чтобы и там оно загремело о том же, о чем гремит в человеческих душах». Тоже легко сказать. Да есть ли такой приемник у церкви исторической? И если даже есть, не разлетится ли он вдребезги от этих громов?
Нет, камень Петров никакой бурей пророческой не сдвинется. И чем неподвижнее, незыблемее, тем святее, вернее своему назначению, ибо назначение церкви Петровой — не творить, а хранить и передавать сотворенное. В передавании, в предании — вот в чем святость этой церкви, а не в пророчестве. Пронести через все века и народы лик Христа неизменяемый — разве этого мало? Без церкви исторической мы бы даже и не знали, что такое Христос.
На окраинах этой церкви, обращенных к будущему, свет Христов меркнет, и церковь уже не видит, куда идет, куда ее ведут. «Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Две ложные теократии, две подмены Христа — западным первосвященником и восточным кесарем — два всемирно-исторических пути, по которым церковь Петрову ведет уже не Христос, а другой.
Так снаружи, но не так внутри. Там, в глубинах своих, в сердце своем, эта церковь «продолжает сиять неувядаемым внутренним великолепием, все тем же притягательным, необычайным, идущим с небесных высот светом, но светом вечерним», — это знает Карташев лучше, чем кто-либо. И вместе с тем знает, что «дух человеческий, не вынося бесконечного тяготения на нем багряных закатных лучей, снова и снова порывается в противоположную им темную сторону Востока, ища там новой встречи с белыми утренними лучами вечного дня».