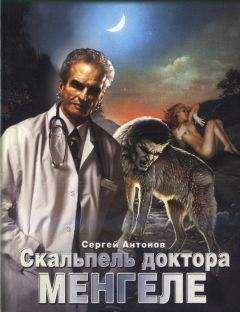Сергей Юрский - Кто держит паузу
– Хвалить не буду. Но мне понравилось, – сказал он своим характерным» немного квакающим голосом. – Интересно, черт вас возьми. Качалов играл Д Чацком Грибоедова, мне Мейерхольд сказал, что в Чацком надо играть Кюхлю, и я сыграл Кюхлю. У вас, по-моему, еще не все получается, но я понял» что вы хотите: вы Пушкина играете в Чацком. Интересно, что еще тут откроется, но ведь ясно же – откроется. Черг возьми, до чего же это интересно!
Написал в углу: «Ура за театр! Эр. Гарин». Писал быстро, как будто его торопили, и не рассчитал:
«Гар» было еще на белом, а «ин» залезло на коричневую масляную краску стены. При ремонте «ин» закрасили. А «Эр. Гар» осталось навсегда – и на потолке и в памяти.
Кто кого копировал – загадка, но сходство и речи у них удивительное: у Эраста Гарина и драматурга Николая Эрдмана, в пьесе которого «Мандат» Гарин играл когда-то главную роль. Это был знамениты» спектакль Мейерхольда. То ли актер подражал автору. да так это у него потом и осталось, то ли автор настолько влюбился в актера, что стал говорить с его интонациями, я не знаю. Но факт есть факт – очень похоже говорили. Только Эрдман еще растягивал слова на гласных и слегка заикался.
Я познакомился с Николаем Робертовичем в Таллине. Меня вызвали туда на кинопробу. Вежливый ассистент режиссера проводил меня до моего номера и гостинице «Палас» и сказал, что заедет за мной через два часа: проба в двенадцать. Однако тут же вернулся и передал приглашение автора сценария зайти поговорить – он живет этажом ниже, в люксе. Я зашел. Эрдман сидел в пижаме в гостиной своего номера и неспешно открывал бутылку коньяка. Было девять часов утра.
Эрдман сказал: «С приездом?», – и я сразу подумал о Гарине, о его манере говорить.
Эрдман продолжал:
– Мы сейчас выпьем за ваш приезд,
– Спасибо большое, но у меня проба в двенадцать, – чинно сказал я.
– У вас не будет пробы. Вам не надо в этом фильме сниматься.
– Почему? Меня же вызвали.
– Нет, не надо сниматься. Сценарий плохой, У меня глаза полезли на лоб от удивления.
– Я, видите ли, знал вашего отца. Он был очень порядочным человеком по отношению ко мне. Вот и я хочу оказаться порядочным по отношению к вам. Пробоваться не надо и сниматься не надо. Сценарий я знаю – я его сам написал. Вам возьмут обратный билет на вечер, сейчас мы выпьем коньячку, а потом я познакомлю вас с некоторыми ресторанами этого замечательного города,
124
Все произошло по намеченной Эрдманом программе. В этом фильме я не снимался.
Однажды мне удалось затащить его в наш театр на спектакль. Он неохотно ходил в театры. Говорил:
«Знаете, я уже был».
– Но этот-то спектакль вы не смотрели?
– А пы абсолютно уверены, что его надо смотреть?
Пришлось рискнуть, сказать, что абсолютно уверен. Эрдман пришел. Спектакль, видимо, не произвел на него впечатления. Он только вежливо сказал:
– Ну и правильно, что взяли и поставили. А разговор был интересный. Эрдман мыслил парадоксально, а говорил, на удивление, конкретно. Он как-то умудрялся совсем избегать дежурных, водянистых фраз, которые занимают столько места в нашем обычном разговоре.
– К классической пьесе надо относиться, как к современной, как к родной и понятной. Ведь она уже давно существует, ее понимание заложено в нас. Надо только поверить в это. Мейерхольд так и поступал.
– А к современной пьесе как относиться?
– Как к пьесе будущего. С уважением и повышенным вниманием.
– А где же пьесы прошлого?
– К прошлому, я полагаю, театр отношения не имеет. Это история, а не театр.
Рассказанные им случаи из жизни как-то очень естественно отливались в форму законченных новелл, всегда глубоких и всегда с юмором.
– Я, знаете, однажды решил менять квартиру. Неуютно спало жить на старой. Болею все. Да и просто надоело. Мы с женой стали говорить всем знакомым, что хотим поменяться. И вот звонит мне как-то известный балетмейстер и говорит, что у него то, что нужно мне, а ему нужно то, что у меня. А надо сказать, что балетмейстер этот женат на моей первой жене, с которой мы довольно давно разошлись. Приезжайте, говорит, посмотрите. Я приехал. Ну правда, это то, что мне нужно, приятная квартира. А он говорит:
Вы посмотрите книги. У нас с вами, наверное, много одинаковых. Может быть, не таскать их туда - обратно, это же страшная тяжесть». Я поглядел, и правда – Диккенса тридцать томов, килограммов на пятьдесят, Золя тоже на полцентнера и так далее. «Да, говорю, это мудро. Вы мне свои оставьте, я вам – свои. Так на так». А потом смотрю – и мебель у него такая же. польская, только чуть светлее моей. Что ж, думаю, зря возить. Пейзаж за окнами – тоже довольно промышленный, вроде моею. А потом, думаю, ведь и жена моя прежняя тоже тут... Может, мне просто перейти в эту квартиру, жизнь-то и наладится...
Расписываться он не стал. «Я человек осторожный: вдруг потом кто-нибудь неприятный рядом поместится».
А вот интересная подпись: «В. П. Максимова Теперь в театре настоящих комиков, комиков до кончиков ногтей, не бывает. Народ все серьезный и образованный, Максимов родился комиком и жизнь прожил комиком, на сцене и в быту. Играл всегда с удовольствием и жил с удовольствием.
Показывали грим к спектаклю «Идиот». Актеры один за другим выходили на центр сцены под свет прожекторов. Вышел Максимов в гриме Фердыщенко.
– Что это? – воскликнул Товстоногов в зале. – Василий Павлович, что вы натворили?
– А что именно? – спокойно спросил Максимов. Вид у него действительно был чудовищный. Наклеено, намазано, налеплено – и борода, и усы, и баки, и ларик, и синяки, и морщины, и бородавка. Словом, за гримом вообще лица не видать.
– Это не грим, а сумасшедший дом. – сказал Товстоногов.
Максимов спокойно и гордо:
– Я ведь не сам, все претензия к гримеру.
– Но вы же артист, это же на вас нарисовано. Вы-то видели, что с вами делают?
– Не видел. Я близорук.
– Так наденьте очки.
– А я, наоборот, снял их: Фердыщенко-то без очков.
– Василий Павлович, о чем мы спорим! – закричал Товстоногов. – Все снять и сделать нормальный вид.
– Но я ведь все равно не увижу, нормальный или не нормальный.
– Что значит не увидите! О чем вы говорите! Хоть что-нибудь вы различаете? Меня вы видите? Максимов спокойно:
– Вижу какое-то талантливое пятно, но без подробностей.
Все грохнули смехом. Максимов вошел а гримерную с зычным криком: «Шаляпин бил своих гримеров!»
В этом углу расписалось много поляков. И самый знакомый, самый любимый для всей нашей труппы – режиссер Эрвин Аксер, руководитель варшавского театра «Вспулчесны», поставивший у нас два спектакля. Его личность, его эстетика оказали большое н благотворное влияние на многих наших актеров, Аксер – человек волевой и настойчивый, но воля эта проявляется всегда а форме подчеркнуто вежливой. На репетиции «Карьеры Артуро Уи» Брехта Аксер делает замечания одновременно артисту М. Иванову и ведущей спектакль О. Марлатовой.
Его речь звучит примерно так:
– Михаил Васильевич, извините, – говорит Эрсин с сильным акцентом. – так-то все есть, нормально, но нужно помене. Не надо со всех сил. Не надо, это театр, это шутки... А, Оля, спасибо, что вы подошли, я просил ставить загородки левее на пятнадцать сантиметров, почему это не выполнили? Это театр, дорогая, это не шутки... Михаил Васильевич, вы должны легче, не страдайте сами, вы показывайте страдание, а не страдайте, это театр, это шутки, понимаете? Извините... Оля, это косо встало, это совсем просто должно быть... как по-русски «просто»? Да, прямо должно быть. Следите за этим, спасибо вам. Это же театр, это не шутки... Михаил Васильевич, понимаете – это театр, это шутки... извините.
Во время репетиций одной актрисе:
– Извините, вы почему плачете? У вас неприятности?
– Нет, это я по роли плачу.
– По роли не надо, пожалуйста.
– Но это же грустная сцена...
– Так пусть зрители плачут. Актеру не надо. Актеру нельзя иметь слишком большое сердце – он не выдержит все время переживать. Как хирург – ему надо дело делать, а не плакать. У кого слишком чувствительное сердце, надо быть зрителем или пациентом. Не плачьте, пожалуйста, если можно. Извините.
В помещении нашего театра гастролировал «Берлине? ансамбль». В день закрытия гастролей перед банкетом актеры расписывались на память. Вот подпись громадными квадратными буквами – Экке Шаль. Это главный и, пожалуй, лучший актер театра. И по подписи видно, что главный актер. Руководитель театра, вдова Брехта актриса Елена Вайгель от краски отказалась. Места на потолке было уже мало, ей пришлось с нашей помощью забраться на стол, и она выцарапала свое имя пилкой для ногтей, а потом по царапине провела карандашом. Так проявился ее характер. Мы протянули руки, чтобы помочь ей слезть, она сказала что-то по-немецки и сделала жест, призывающий нас расступиться. Потом легко спрыгнула на пол. Ей было тогда семьдесят лет... Один посетитель спросил: