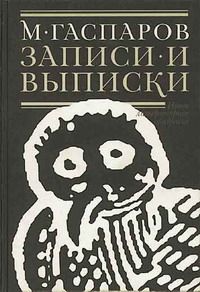Михаил Гаспаров - Записи и выписки
ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
(для журнала «Наше наследие»)
Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.
В. О. Ключевский
Словосочетание «Наше наследие» означает «наследие, полученное нами от предков» и — «наследие, оставляемое нами потомкам». Первое значение — в сознании у всех, второе вспоминается реже. На то есть свои причины.
Спрос на старину — это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт семидесяти советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат — осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново — никто не знает, только спорят. Но что такое осадить назад, очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений давно отработана русской историей.
На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России исключительно, настоящее — великолепно, будущее — неописуемо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось — как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно, не все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак приходится заботиться.
У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат: Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу — Любовь к родному пепелищу: Любовь к отеческим гробам. [На них основано от века, По воле Бога самого, Самостоянье человека, Залог величия его.] Животворящая святыня! Земля была б без них мертва, Как… пустыня И как алтарь без божества. При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое самим [102] Пушкиным, — вероятно, цитирующим льстят слова «самостоянье» и «величие». Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен «отеческий гроб» его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто ли навещал могилу.
Культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. В. Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. Десять с лишним лет назад была элитарная Тыняновская конференция в Резекне, местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхватан мгновенно. («Чтобы дарить вместо взяток», смущенно объясняли купившие.) Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: люди читают меня, потому что плохо знают русскую историю. Он был прав: лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где (боюсь) о нем вообще не упомянуто. Массовая культура — это все-таки лучше, чем массовое бескультурье.
В Москве перекрасили старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрации не получилось: в новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом — весьма специфическим и весьма органичным, как знает каждый москвич. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 1980-х гг. Потом заново выстроили храм Христа Спасителя — здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый старый Арбат, только вдесятеро дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне — насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было, так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей.
Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы в XVIII веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля — со сносом москворецкой стены, с парадным, во всю ширь, спуском к Москве-реке итд? В центре Москвы появилось бы нечто совсем не похожее на то, что мы видим сегодня, но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас — существующим стенам и башням, ибо они освящены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши постройки, которым сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого.
Историки античности знают: когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, — ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура нимало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет стихийную общественную потребность «осадить назад» — это тема для исследований, которые многое откроют потомкам в нашей современности. [103]
Но сейчас наша массовая культура — явление неуправляемое и непредсказуемое (хотя она вполне поддается управлению, и на Западе это хорошо знают). Как сквозь нее профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего, — это вопрос без ответа. Подумаем лучше о том, как должна относиться к «нашему наследию» обычная культура (именующая себя иногда «высокой»), заинтересованная не только в том, чтобы воспроизводить самое себя, но и в том, чтобы порождать новое — то, что нужно будет завтрашнему дню.
Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого, — могу лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями покамест кажутся две: она будет эклектична и плюралистична.
Эклектична она будет потому, что эклектична всякая культура: только издали эпоха Эсхила или Пушкина кажется цельной и единой. Если бы нас перенесло в их мир и мы бы увидели его изнутри, у нас бы запестрело в глазах: так трудно было бы отличить «самое главное» от пережитков прошлого и ростков нового. В наше время история движется все быстрей, и наследие прежних эпох напластовывается друг на друга самым причудливым образом. Купола XVII века, колонны XVIII века, доходные глыбы XIX века, сталинское барокко XX века смешиваются в панораме Москвы. Чтобы разобраться в этом и отделить перспективное от пригодного только для музеев (этих кладбищ культуры, как называл их Флоренский), нужно разорвать былые органические связи там, где они еще не разорвались сами собой, и рассортировать полученные элементы, глядя не на то, «откуда они», а на то, «для чего они». Так Бахтин во всяком слове видел прежде всего «чужое слово», бывшее в употреблении, захватанное руками и устами прежних его носителей; учитывать эти прежние употребления, чтобы они не мешали новым, конечно, необходимо, но чем меньше мы будем отвлекаться на них, тем лучше.
«Эклектика» долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляются цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного взгляда, чтобы увидеть: цельность, органичность и пр. мы видим, лишь нарочно закрывая глаза на какие-то стороны предмета. Мы любим Тютчева, не думая, что он был монархист, и любим Эсхила, не думая, что он был рабовладелец. Последовательные большевики отвергали Толстого за то, что он был толстовец, и Чехова за то, что он не имел революционного мировоззрения, — разве мы не стали богаче, научившись смотреть на Толстого и Чехова не с баррикадной близости, а так, как смотрим на Эсхила и Тютчева? Борис Пастернак не мог принять эйзенштейновского «Грозного», чувствуя в его кадрах сталинский заказ, — разве нам не легче оттого, что мы можем отвлечься от этого ощущения? Песня может быть враждебной и вредной от того, о чем в ней поется; но если песня сложена так, что она запоминается с первого раза, то это хорошая песня (скажет всякий фольклорист). Уже здесь, внутри творчества одного автора, в границах одного произведения, мы отбираем то, что включаем в поле своего эстетического восприятия и что оставляем вне его. «Отбираем» — по-гречески это тот самый глагол, от которого образовано слово «эклектика».
Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами взаимоисключающими: кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно стоят рядом, под одним переплетом. Как происходит это стирание противоречий, этот переход от взгляда изнутри к взгляду издали? Мы не можем это описать: это дело социологической поэтики, а она у нас так замордована эпохой социалистического реализма, что не скоро оправится. Но этот «хрестоматийный [104] глянец» — благое дело, несмотря на всю иронию Маяковского, сказавшего эти слова. Культура — это наука человеческого взаимопонимания: общепризнанный культурный пантеон, канон классиков, антологии образцов, обрастающие комментариями и комментариями к комментариям (как в Китае, как в Греции), — это почва для такого комментария.