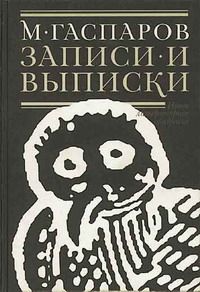Михаил Гаспаров - Записи и выписки
У личности нет прав — во всяком случае, тех, о которых кричат при постройке новых взаимоотношений. У личности есть обязанность — понимать. Прежде всего понимать своего ближнего. Разбирать по камушку ту толщу, которая разделяет нас каждого с каждым. Это работа трудная, долгая и — что горше всего — никогда не достигающая конца. «Это стихотворение хорошее». — «Нет, плохое». — «Хорошее потому-то, потому-то и потому-то». (Читатель, а вы всегда сможете назвать эти «потому-то»?) — «Нет, потому что…» итд. Наступает момент, когда после всех «потому что» приходится сказать: «Оно больше похоже на Суркова, чем на Мандельштама, а я больше люблю Мандельштама». — «А я наоборот». И на этом спору конец: все доказуемое доказано, мы дошли до недоказуемых постулатов вкуса. Стали собеседники единомышленниками? Нет. А стали лучше понимать друг друга? Думаю, что да. Потому что начали — и, что очень важно, кончили — спор именно там, где это возможно. (Читатель, согласитесь, что чаще всего мы начинаем спор именно с того рубежа, где пора его прекращать. А ведь до этого рубежа нужно сперва дойти.) Я нарочно взял для примера спор о вкусе, потому что он безобиднее. Но совершенно таков же будет и спор о вере. Кончится он всегда недоказуемыми постулатами: «Верю, ибо верю». А что постулаты всех вер для нас, людей, равноправны — нам давно сказала притча Натана Мудрого.
Если такие споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию, то зачем они нужны? Затем, что они учат нас понимать язык друг друга. Сколько личностей, столько и языков, хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Разбирая толстую стену взаимопонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа — говорить и думать, как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить собственную «самость». Почему Рим победил Грецию, хотя греческая культура была выше? Один историк отвечает потому что римляне не гнушались учиться греческому языку, а греки латинскому — гнушались. Поэтому при переговорах римляне понимали греков без переводчика, а греки римлян — только с переводчиком. Что из этого вышло, мы знаем.
Сколько у вас бывает разговоров в день — хотя бы мимоходных, пятиминут ных? Пятьдесят, сто? Ведите их всякий раp так, будто собеседник — неведомая душа, которую еще нужно понять. Ведь даже ваша жена сегодня не такая, как вчера. И тогда разговоры с людьми действительно других языков, вер и наций станут для вас возможнее и успешнее.
И последнее: чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя, а не от чьего-либо общего лица. Когда в гражданскую войну к коктебельско[97]му дому Максимилиана Волошина подходила толпа, то он выходил навстречу один и говорил: «Пусть говорит кто-нибудь один — со многими я не могу». И разговор кончался мирно.
Нас очень долго учили бороться за что-то: где-то скрыто готовое общее счастье, но его сторожит враг, — одолеем его, и откроется рай. Это длилось не семьдесят лет, а несколько тысячелетий. Образ врага хорошо сплачивал отдельные народы и безнадежно раскалывал цельное человечество. Теперь мы дожили до времени, когда всем уже, кажется, ясно: нужно не бороться, а делать общее дело — человеческую цивилизацию: иначе мы не выживем. А для этого нужно понимать друг друга.
Я написал только о том, что доступно каждому. А что должно делать государство, чтобы всем при этом стало легче, я не знаю. Я не государственный человек.
ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ
(дискуссия в журнале «Литературное обозрение». Эту заметку не хотели печатать, но оказалось, что именно ее выбрал для официального обличения М. Б. Храпченко, — пришлось напечатать)
Филология — наука понимания. Слово это древнее, но понятие — новое. В современном значении оно возникает в XVI–XVIII вв. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук — историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса — античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию: Энея — рыцарем, а Сократа — профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью — филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу.
Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично, в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас не похоже. Гуманизм многих веков сходился на том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансному аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях, но для каждой эпохи эти вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание такого рода — дело несложное: чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютчевым, нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец, а Тютчев — монархист. Но ведь наслаждение и понимание — вещи разные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно, лишь преодолев историческую дистанцию; и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология. [98]
Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, — учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям «как к живым людям»; филолог этого права не имеет, он обязан разложить такое отношение на составные части — на отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом (я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя — одинаково со стороны и одинаково критически.
Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? — потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: «ведь они адресованы не мне». Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает «Евгения Онегина», «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике.
Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чужого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал — не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо — настоящее, неискривленное. Если же смотреть только на изображение («идти по ту сторону слова», как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя.
За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературоведение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думается, что это не случайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы, и даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках «Словарь языка Пушкина»), стилистическом (такой словарь уже начат для поэзии XX в.). образном (на основе частотного тезауруса: такие словари уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы). [99] Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей.