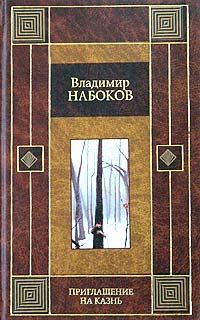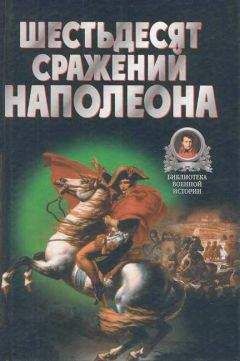Михаил Айзенберг - Ваня, Витя, Владимир Владимирович
Впечатление наверняка шло от глаз — от их «опрокинутого» выражения. Глаза серые, в общем, небольшие. Но иногда взгляд шел сквозь тебя, явно не замечая преграды, и тогда глаза казались огромными. В первую встречу я смотрел на него издалека и без очков, даже не рассмотрел хорошенько, но подумал почему-то: «Щеголь, маленький щеголь». Совершенно непонятно, откуда это пришло — точно, что не от одежды. Потом сразу стерлось, забылось. А все-таки было верным. Даром, что ли, он Константина Леонтьева любил. Маленький щеголь, Ванюша. Ему бы в лаковых сапожках расхаживать, а не в тех, солдатских.
А вообще-то все нормальные — то есть живые — люди внешне вполне забавны, иногда нелепы. Шмыгают носом, шевелят губами. Волос вихром. (Мысль в духе Честертона.)
— Ты еще прочтешь у Валери про этого интересного господина Тэста, говорил мне Иван. — Конечно, он утверждает, что писать ничего не надо, да и читать, кажется, не надо.
— А что надо?
— А надо все помнить. Причем не только «на сегодня», но и «на завтра». То есть надо помнить вперед: отбирать и запоминать то, что сегодня кажется ненужным, но когда-нибудь потом окажется самым важным. А я, кстати, даже не помню, как мы с тобой познакомились. Где это было, в институте?
— Нет, в институте я тебя в первый раз увидел, издали. А потом, уже в другой день, я стоял в читальном зале, сдавал книги. Подошел Казик, мы пошли вместе. Уже на улице он небрежно и как бы невзначай спросил: не хочу ли я зайти с ним к одному интересному человеку? Слово «интересному» он так растянул, немного иронически, как будто не ручается за это определение. Не берет ответственности. «Художник-абстракционист, — пояснил он. — Тарон — это имя, а не фамилия. Сложный человек, но тебе, думаю, будет полезно с ним столкнуться… сразиться».
Когда мы поднялись на последний этаж, он просто толкнул дверь, и она открылась. Я удивился: «Так это еще не его квартира?». Казик усмехнулся, довольный: «Богема в отдельных квартирах не живет-с». В его дверь он уже постучал. «Входите!» — ответили очень громко, как будто хозяин стоял прямо за дверью. На самом деле он сидел у окна, в самом конце неправдоподобно узкой, в ширину коридора, комнаты. Большую ее часть занимал дощатый топчан, на нем этот человек и сидел по-турецки, очень прямо. От темной (на фоне окна) фигуры шло грозное напряжение. Не сразу различилось лицо, красивое и мрачное, явно восточное. Я видел, что он смотрит на Казика в упор, нахмурившись. «А-а, зловеще протянул он, и это „а-а“ перешло в „э-э“. — Это ты, Каз». И тут же, без всякого предупреждения пошел такой ругательский разнос, что бедный Казик (вроде бы уже победно сразившийся с этим сложным человеком) не мог и слова вставить. Все получалось совсем не так, как он предполагал. «Я таких, как ты, не люблю, — художник не выстреливал словами, а метал их, как копья. — Я люблю так: приходит человек и прямо говорит: вот мое голубое, а вот мое красное. Вот Андросов решил у меня учиться живописи. Так я теперь его сюда не пущу, мы будем здесь водку пить, а он будет там, за дверью, потому что он — ученик». Постепенно выяснялся смысл разноса: Казик купил у художника книгу, не то икону, а это неправильно, следовало просто дать деньги, ничего не беря взамен. Но напор, я думаю, был спровоцирован тем, что появился зритель. Зритель, учти, совершенно анонимный, Казик не успел нас познакомить, и все это время он как бы не обращал на меня внимания.
— А я там появился в какой-то следующий раз?
— В тот же, но позже. Ты был с Ниной.
— А как вела себя Нина, как она тебе показалась?
— Ты понимаешь, я-то считал, что там все свои люди и знакомы сто лет. И меня, помню, удивило, что держится она скованно, даже напряженно, хотя вся обстановка ей скорее нравится. Или она очень хочет, чтобы понравилась, и старается расположиться к тому, что видит.
— Да-да, очень похоже.
— А ты только что приехал из Печор, не переодевшись и в тяжелых яловых сапогах. Эти сапоги просто заслонили тебя, потому что ты все время шагал из угла в угол, как маятник, но как-то не очень естественно. То есть ты делал каждый шаг, как будто они были тебе велики, эти сапоги.
— И это был я, несмотря на всю чувствительность!
— Пока ты так вышагивал, Тарон внушал тебе, как разговаривать с родителями: «…ты приехал жениться», — и так далее. Он и тебе рассказал про ученичество Андросова, но ты уже знал об этом от самого «ученика». Тарон спросил, что тот говорит. Вот тут ты и удивил меня в первый раз. Чем? Не знаю, неуступчивостью, что ли. Ну, казалось бы, почему не доставить человеку удовольствие, если все для этого готово и ничего решительно от тебя не требуется. Так нет. Ты ответил нехотя и очень сухо: «Говорит, что очень полезно». Тарон недовольно кивнул.
Не помню, откуда появилась водка. Мне налили полный до краев стакан, и его следовало выпить сразу, до дна. Этого никто не говорил, но я чувствовал: первый экзамен. Никогда раньше я полный стакан в себя не вливал, да и потом что-то не припомню. Но тут выпил, с таким, знаешь, выдохом — пан или пропал. Закуска меня тогда поразила: вынули откуда-то сырую сосиску — одну! — и разрезали ее на несколько частей. Я вообще не знал, что сосиски можно есть сырыми.
— Да, я помню твои рассказы о «субботах», где после разносолов еще выносят баранью ногу. Я всегда возмущался: разве может с такой закуской получиться хоть какой-то путный разговор?
— Потом я стал тихо, но быстро пьянеть. Чувствовал, как опьянение поднимается откуда-то снизу, но не мог ничего сделать. Как вода в наводнение. Тарон сказал: «Ну, ты меня как-то узнал, теперь Я хочу познакомиться с тобой. Ты молчишь, это хорошо. Но нужно же мне знать, с кем я имею дело. Вот рисунки, разбери их на три кучи: что понравилось (если что-то понравится), что не понравилось и что оставило равнодушным». Папка была огромная, рисунков тьма, а голова уже не моя и руки тоже. Но ошибиться было нельзя, от этого зависело ВСЕ. Я разложил. Он сказал: «Ну, ясно. Ладно, приходи».
— А когда ты читал свои стихи? В тот же раз?
— В следующий. Это же были стихи про него — «коршун, пасынок, юродство». Я хотел сделать еще рисунок и включить в него стихи, — так делал какой-то человек с молодежной выставки, а потом Константинов. Но до рисунка руки не дошли, и слава Богу. Тарон сказал: «Да, все это во мне есть, и коршун, и юродство… Про пасынка только не знаю».
А тебе стихи, я помню, не понравились. Ты и тут не уступил.
«Я имею право вас учить, — говорил Тарон, — потому что я всю жизнь сплю на жестком».
«Не говори о живописи пренебрежительно, — учил он, — тогда мазки станут легче и прекрасней». И еще учил: «„Боярыня Морозова“ — она красная, только написана синим»… «Если они красоте предпочитают насилие, я должен писать насилие»… «Здесь я взял кусочек мастерства у Эль Греко, как он пишет белые ткани. Мастерства в том убогом смысле, в котором его понимают».
Или еще: «Не „какой-то“ Ван Гог, а Его Величество Ван Гог. Ван Гог заслужил свою смерть. Он выстрелил себе в грудь, а потом спокойно разговаривал с братом. Умирающий на снегу должен просить прощения у идущих дальше».
И еще: «Творчество — это ловушка, оно не дает опоры. Ты должен идти по канату, но не за мной. Кафка в жизни был вполне корректным человеком». «Я должен был преподать тебе урок доблести, а дал урок страдания».
Иван о Тароне: «Все, что он говорил, казалось таким ясным и своим, и мысли не возникало, что это может когда-то забыться. А вот забылось. Просто никогда не веришь, что сам можешь измениться».
— Ну что, Иван, — говорит Тарон, — когда помирать будешь?
— Что значит «когда»? Когда Бог пошлет.
— Да? Правда? — обрадовался Тарон. — Я тоже теперь так думаю: когда Бог пошлет. А то ты, помню, мне всю плешь проел этими вопросами.
— А чем ты сейчас занимаешься?
— В последнее время — подделкой. То есть я вроде как поддельщик. Обнаружились у меня вдруг способности к таким вещам, как, например, — сделать шкатулку. Почему-то это никто сейчас не может сделать. А почему — неизвестно. А я вот могу.
Иван вдруг обернулся и, показав на буфет, очень резко спросил: «Это какое дерево?». Тарон послушно полез в карман, вынул очки. Вот так новости! Готовность подчиниться и отвечать на неудобный вопрос была еще более неожиданна, чем появление очков. В очках он уже совершенно на себя не походил: какой-то действительно ремесленник. Долго, безнадежно разглядывал дерево. «Я думаю, дуб». «Это орех», — отрезал Иван.
А после его ухода долго возмущался: «Тоже мне поддельщик, дуб от ореха отличить не может. „Я — поддельщик!“».
В отличие от Тарона, он (Иван) не навязывал другому свои условия. Он просто никогда не соглашался на чужие. Это несогласие выражалось ясно и без промедлений, но у тебя хотя бы оставалось право отказаться или уклониться. Не помню, правда, чтобы я спешил этим правом воспользоваться. Меня восхищала чудесная маневренность его мысли, ее неожиданная ловкость — безупречный интеллектуальный инстинкт.