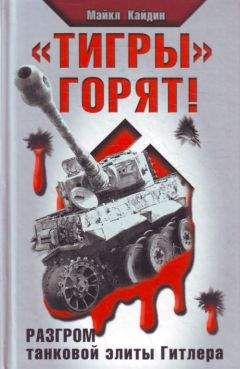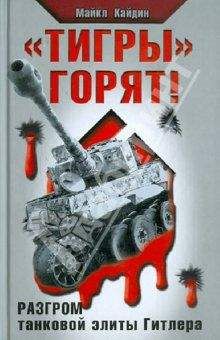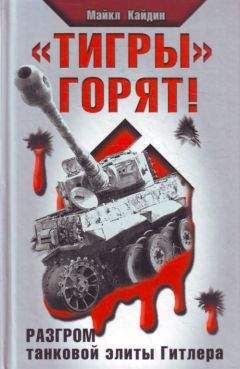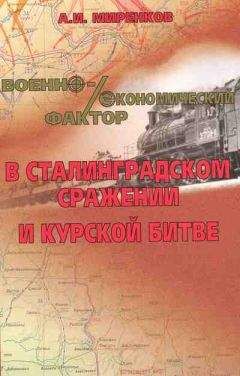Ив Аман - Отец Александр Мень. Христов свидетель в наше время
Уход в катакомбы
Отец Александр родился 22 января 1935 года.[11] Советская власть в это время трубила о своих победах. Съезд коммунистической партии за год до этого получил название «съезда победителей». Первый план индустриализации был выполнен за четыре года вместо пяти. Коллективизация, с ее миллионами депортированных крестьян, умерших от голода, убитых, завершилась. Все общество было окончательно порабощено. Под водительством коммунистической партии и ее прославленного вождя И. В. Сталина советский народ совершает героические подвиги, солдаты неусыпно охраняют границы, НКВД (предшественник КГБ) истребляет врагов народа, летчики летают выше всех, дальше и быстрее, стахановцы побивают рекорды производительности, музыканты получают первые премии на международных конкурсах… Вот о чем без конца повторялось в газетах и по радио.
Месяц назад был убит глава ленинградской парторганизации, весьма вероятно, по приказу Сталина. Используя эту акцию, вождь развязал «большой террор». Политическая полиция приступает к массовым арестам. Вскоре в Москве начинаются процессы, во время которых обвиняемые признавались в самых неправдоподобных преступлениях, как, например, в том, что они сыпали в масло толченое стекло. ГУЛАГ, где уже находились миллионы людей, не прекращал расти.
Тем не менее, большая часть населения, начиная с молодежи, была убеждена, что участвует в рождении нового общества, в котором осуществятся все надежды человечества. К тому же множество интеллектуалов из-за границы видели в СССР «землю, где утопия вот-вот станет реальностью».[12] Оправдывали насилие тем, что создавали мир, где больше не будет насилия. Говорили, что нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Сами слова «сострадание, милосердие» казались устаревшими. Все подчиняли политической «целесообразности». Верили, что достаточно людям следовать марксистско-ленинской науке, чтобы построить рай на земле. Царил атеизм. Думали, что лишь необразованные старушки могут верить в Бога, а государство использовало все возможные средства, чтобы помешать «родителям-ретроградам отравлять умы детей религиозным идиотизмом».
Союз воинствующих безбожников не замедлил сообщить о том, что в него входят тридцать миллионов членов. Он издавал бесчисленные газеты, журналы, книги, брошюры и вдохновлял десятки антирелигиозных музеев. Посетив один из них в 1936 г., Андрэ Жид был поражен, обнаружив там следующую подпись под изображением Христа: «Легендарный персонаж, никогда не существовавший».[13] Французский писатель, которого никак нельзя заподозрить в сочувствии к Церкви, не мог понять, как Евангелие могло быть полностью изъято в СССР.
Все православные церковные учреждения, равно как и иные религиозные организации были полностью уничтожены. Закрыто более 95 % церквей. Пока еще терпели нескольких епископов. Ни одного монастыря, ни одной семинарии уже не существовало. А сколько епископов, священников, верующих мужчин и женщин было истреблено, расстреляно, замучено, сколько скончалось от истощения в страшном лагере на Соловках? Сколько было арестовано, потом отпущено и вновь сослано в лагеря? Сколько, уже отбыв срок, получили новый и теперь строили Беломорканал? Можно ли будет когда-нибудь установить, какое число мирян было посажено по религиозным мотивам? Сколько было убито? Сколько нашли смерть во время «большого террора»? Никогда христианский мир не испытывал преследований в таком объеме со времен царствования римского императора Диоклетиана.
В период, предшествовавший революции, моральному авторитету православной Церкви был нанесен серьезный ущерб ее покорностью перед царской властью. Выступая защитниками Церкви, цари, начиная с Петра, лишили ее Патриарха, который до той поры руководил Церковью. Цари старались сделать ее пружиной государства. Эта зависимость стала особенно очевидной в царствование Николая II, когда судьба епископов попала в руки Распутина, своего рода «гуру» императорской семьи.
Русское общество на протяжении XVIII и XIX веков пережило глубокую эволюцию, но Церковь осталась в стороне. Интеллигенция полностью от нее отвернулась. Тем не менее, православные миссионеры несли Слово Божье Евангелие, (оно было переведено на десятки сибирских наречий), несли вплоть до Тихого океана, и в стране шло духовное обновление, вдохновляемое великими молитвенниками. Самый знаменитый из них — Серафим Саровский, умерший в 1833 году. В середине XIX века в безвестный монастырь, расположенный примерно в трехстах километрах от Москвы, в Оптину, начался внезапно приток верующих. В монастырях опытные монахи всегда помогали молодым людям совершенствоваться в духовной жизни. Но в Оптиной — и это было новым — монахи (их называли старцами), полностью поставили себя на службу мирян; тем, которые искали с ними встреч, старцы помогали в поисках Бога, руководили ими, становились их «духовными отцами», а они — «духовными детьми». С утра до вечера выслушивая, утешая, советуя, наставляя, они были доступны для всех — богатых и бедных, дворян и крестьян, часто вопреки сдержанному отношению части верховной иерархии, полагавшей, что это вносит беспорядок в церковную жизнь. Через Оптину восстановился мост между Церковью и культурой — крупные фигуры из мира культуры завязали отношения со старцами. Это подробно описал Достоевский, воссоздав атмосферу Оптиной Пустыни, в своем романе «Братья Карамазовы». После беседы с одним из старцев Толстой воскликнул: стоило только поговорить с ним, и вот уже на душе стало легко и отрадно.[14]
В конце XIX века большой популярностью во всех кругах общества и, в частности, в народных, пользовался отец Иоанн, настоятель собора в Кронштадте. Сюда стекались простые люди: безработные, нищие, бездомные, всякие люди «второго сорта», изгнанные из столицы. Отец Иоанн открыл для них мастерские, ночлежный дом, больницу, столовую и т. д. Его доброе имя стало известно в стране, его зазывали во все уголки России: о. Иоанн совершал богослужения, проповедовал, исповедовал и многих больных исцелял своими молитвами.
В начале XX века непримиримые противоречия между интеллигенцией и религией стали уходить в прошлое. Целая плеяда светских авторов развивала оригинальные религиозные мысли, мысли эти находили отзвук у широкой публики и с интересом принимались некоторыми лицами духовного звания. Одним из самых блестящих представителей этого поколения был Павел Флоренский, разносторонне талантливый человек (русский Леонардо да Винчи, по мнению одного из его друзей), профессор Духовной академии в Москве, размещавшейся в Троице-Сергиевой Лавре. Позже он принял священнический сан. Свои дни П. Флоренский кончил в ГУЛАГе. Остальные по большей части были изгнаны из страны и продолжали свой труд за границей.
В 1905 году на страну обрушилась первая революционная волна. Царь должен был пойти на уступки всему обществу. Пришла в волнение Церковь. В ее лоне стали возникать разные группировки. Начали циркулировать петиции. Священники жаловались на власть епископов. Епископы все с большим трудом мирились с постоянной опекой государства и стремились восстановить патриаршество. Мысль о том, что Церковь нуждается в общем aggiomamento, получила широкое распространение. Царь согласился, чтобы упорядочить все вокруг, на созыв Поместного Собора. Этот Поместный Собор православной Церкви России можно сравнить по намерениям и широте намеченных там реформ со II Ватиканским. Он был тщательно подготовлен, но только после падения монархии стало возможным созвать его. Собор открылся в Москве с большой торжественностью 15 августа 1917 года. Несколько недель спустя, пока в Кремле шли ожесточенные бои и уже после того, как большевики захватили власть в Петрограде (он уже не назывался Санкт-Петербургом и пока еще не был Ленинградом), Собор проголосовал за восстановление патриаршества. Владыка Тихон,[15] ценимый за простоту, смирение и доброту, был избран Патриархом. Собор принял еще целый ряд важных решений, в частности, имеющих отношение к реорганизации структуры приходов, но вынужден был, так и не окончив свой труд по преобразованию Церкви, прекратить заседания. Новая власть и Церковь немедленно вступили в конфликт. В глазах большевиков Церковь была скомпрометирована непосредственными связями со старым режимом, а религиозная идеология была изобличена. «Реальное счастье народа требует упразднения религии с ее иллюзорным счастьем» — учил Маркс.[16] Ленину сама мысль о Боге была невыносима. «Всякая идея о всяком боженьке, — писал он, — всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость… Всякая, даже самая утонченная, самая благонамеренная защита или оправдание идеи Бога есть оправдание реакции».[17] Впрочем, если православная Церковь первой подверглась гонению, то не была пощажена ни одна иная религиозная организация. Установление большевистской власти сопровождалось насилием по всей стране. Под предлогом национализации церковного имущества разорялись монастыри и церкви. Патриарх призывал всех верующих стоять за веру и отлучал от Церкви тех, кто повсюду разбрасывает «семена злобы, ненависти и братоубийственной борьбы». 23 января 1918 года большевистские власти обнародовали декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Только содержание текста не соответствовало заглавию (у нас, позже с юмором объясняли верующие, Церковь отделена от государства, а не наоборот); цель была лишить Церковь возможности действовать, а равно и ее материального достояния, и сделать это законно. В частности, прихожанам не разрешалось собираться, а обучение катехизису разрешалось лишь частным образом. Более поздние инструкции уточняли, что это возможно лишь в частных домах и группами не более, чем из трех детей.