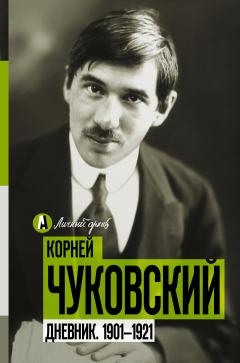Корней Чуковский - Дни моей жизни
24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой). Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, — не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятье, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я уславливался с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня — моих настроений и дум — пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь… теперь я уже заранее стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, — стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что, — и все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня всего насквозь, она, для которой я делаю все это — моя милая, томная, жгучая, неприступная, — она и т. д.
Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души, сделать ее опять для себя понятной и близкой…
2 марта. Странная сегодня со мною случилась штука. Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко.
Позанялся с ним, наведался к Надежде Кириаковне. Она мне рассказывала про монастыри, про Афон, про чудеса. Благоговейно и подобострастно восхищался, изменялся в лице каждую секунду — это я умею. Ужасался, хватаясь за голову, от одного только известия, что существуют люди, которые в церковь ходят, чтобы пошушукаться, показаться, а не — и т. д. Несколько раз, подавая робкие реплики, назвал атеистов мерзавцами и дураками.
И так дальше. Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви{1}. Я не согласен ни с одной мыслью Толстого, убеждения его мне столь же дороги, как и убеждения Жужу, — и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром 19-летнего юноши начинаю цицеронствовать.
«40 лет, — говорю я, — великий и смелый духом человек на наших глазах кувыркается и дергается от каждой своей мысли, 40 лет кричит нам: не глядите на меня, заложив руки в карманы, как праздные зеваки. Корчитесь, кувыркайтесь тоже, если хотите познать блаженство соответствия слова и дела, мысли и слова… Мы стояли разинув рот и говорили, позевывая: „Да ничего себе. Его от скуки слушать можно…“, и руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот… наконец мы соблаговолили вытащить руки, чтобы… схватить его за горло и сказать ему: как ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать? В 74 года это не полагается…» И так дальше. Столь же торжественно и столь же глупо…
Т.е. не глупо, говорил я в тысячу раз сильнее и умнее, чем записал сейчас, но зачем? Как хорошо я сделал, что не спросил себя: зачем? Какое это счастье! Если бы я был когда-нб. наверное убежден, что хочу видеть М., хочу на самом деле, а не выдумываю этой потребности, она сейчас сидела бы возле меня и ее холодные руки лежали в моей красной, громадной руке. Но… черт его знает, хочу ли я. Зачем это бывает так редко, что мы не спрашиваем себя ни о чем, а делаем так, как вырвется у нас? Да если б мы имели эту способность. Боже, как бы сильны мы были!
И теперь я не посмеюсь над своею нелепой речью не пожалею, что стал похож на этих милых идиотов. Но главного я не сказал. Говорил я свою речь, говорил, и так мне жаль стало себя, Толстого, всех, — что я расплакался. Что это? Вечное ли присутствие Маши «и моей душе», присутствие, которое делает меня таким глупым, бессонные ли ночи или первая и последняя вспышка молодости, хорошей, горячей, славной молодости, которая… Маша! Как бы мам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни. Я бегу от нее. Но куда? Как повести иную жизнь? Деятельную, беспокойную, свободную. Как? Помоги мне…
Говорю я это и не верю себе нив грош. Может быть, мне свобода не нужна. Может быть, нужно мне кончать гимназию…{2}
3 марта. Полка книг, — а впрочем… К маю-июню научимся английские книги читать, лодку достанем. Май на лодке, июнь и вообще лето где-ниб. в глуби Кавказа, денег бы насобирать и марш туда! А чтоб денег насобирать — работать нужно. Как, где, что? Не знаю. Но знаю, что не пропадем. Только заранее нужно теоретически поставить вопрос, когда, от каких причин возникает обыденность, скука, сознание взаимной ненужности, как пропадает та таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть… Мы хотим обмана, незнания, если обман и незнание дают счастье. Нет ни одного влюбленного, который, узнав свою возлюбленную, продолжал бы любить ее. «Я ошибся, я обманулся», — говорит он через месяц. Я ни за что никогда не хочу ни произносить, ни слышать от нее таких слов. «Чем я был пьян, вином поддельным иль настоящим — все равно!»{3} Лишь бы быть пьяным. Если я узнаю, что это вино поддельно, я перестану пить его — и не достигну цели своей — быть пьяным. Так я предпочитаю не узнавать, каково вино. «Дай мне минувших годов увлечения, дай мне надежд зоревые огни…» и т. д. «Все ты возьми, в чем не знаю сомнения, в правде моей — разуверь, обмани, дай мне…» и т. д. И выше: «Дай мне опять ошибаться дорогами!»{4} Вот чего я прошу от всех, от судьбы, от людей, от труда, вот в чем единственный исход… (Об этом нужно будет сказать Сократу.) Ну так — стало быть, тайна, ошибка. Умышленная ошибка! По условию: ты обманываешь меня, а я обману тебя. Как же достичь этого лучшим манером?
1) Не быть вместе, т. е. занять большую часть дня отдельной работой. Вместе больше работать, чем беседовать. Жить отдельно… Если можно, даже устроить себе препятствие, Т. к. препятствие усиливает желание.
Обедов не устраивать. Домашний обед — фи! Совсем как Клюге с Геккер… Молоко какао, яйца, колбаса — мало ли что? Лишь бы не было кастрюль, салфеток, солонок и др. дряни… Это первый путь к порабощению. Я уверен, что какой-нб. кофейник — гораздо больше мешает двум людям порвать свою постыдную жизнь, чем боязнь сплетен, сознание долга. (Фу, какое скверное слово, опоэтизированное как знамя.) «Дикая утка» — почему муж остается с женой. (Кстати… Был у меня рассказ, как одна девушка в холерный год делает чудеса самопожертвования, не боится ни заразы, ни невежества мужиков, ни интриг фельдшеров — ничего и, когда ее переводят из тесной каморки учительницы в крестьянскую просторную избу богатого мужика, уезжает, испуганная словами жены этого мужика, что в избе много тараканов.) Долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стенках. Вообще все лишнее и ненужное! Смешно! Она прямо и сознательно сказала мне: я, Коля, отдам вам всю жизнь. А если бы я попросил у нее, чтобы она ходила в платке и не надевала бы шелковой кофточки, она этого не сделала бы. Тараканы, тараканы!
3) Нужно заботиться, чтобы жить возможно больше общими интересами. Чтобы мое слово не стало для нее никогда чужим и бессмысленным, чтобы мое желание прочитать эту книгу стало ее желанием, не только потому, что оно мое…
Как же сделать это? Нужно заняться вместе с нею чем-нб. таким, чего мы оба в равной мере не знаем. Ну вот хотя бы историей. Политическую экономию мы с нею проштудируем так, что только держись.
9 марта. Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей И. Иванова, Евг. Соловьева-Андреевича и проч. нынешних говорунов, которых я имею терпение дочитывать до третьей страницы. Прочтешь 10, 15 стр., тр., тр., тр… говорит, говорит, говорит, кругло, цветисто, а попробуй пересказать что, черт его знает, он и сам не перескажет. Счастье этому писателю. Он и сам в письме к Анненкову сознается, что ему везет на друзей, а чуть он помер, стали его друзья вспоминать и, по свойству всех стариков, уверенных, что в «их время» было «куда лучше», — создали из него мифическую личность. Некрасов, написавший эпитафию Белинскому, чуть только тот помер, называет его «приятелем», «наивной и страстной душой», а через несколько лет Белинский вырастает в его глазах в «учителя», перед памятью которого Некрасов «преклоняет колени»{5}. Тургенев был недоволен Добролюбовым и противопоставил ему Белинского — здесь уж и говорить нечего об объективности{6}. (Правда, Достоевский через десятки лет все же осмелился назвать Белинского — сволочью, но на него так загикали, что Боже ты мой!){7}