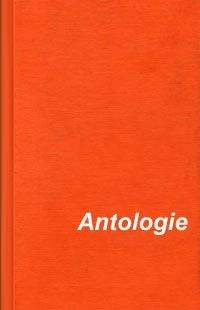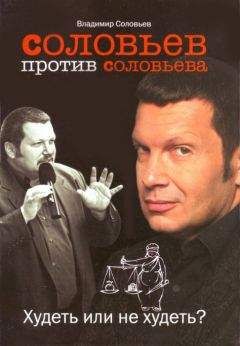В Фатющенко - Владимир Соловьев - критик и публицист
Вывод автора, правда, далек от славянофильства, в котором не было идей мессианизма. У Соловьева же они налицо: "Или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только славянство и народ русский... А до тех пор мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая, вместо образа и подобия божия, все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны,- мы должны же, наконец, увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер, перестать творить себе кумира изо всякой узкой ничтожной идейки, должны стать равнодушнее к ограниченным интересам этой жизни, свободно и разумно уверовать в другую, высшую действительность" (I, 238-239).
_____________
{1} Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 128.
11
В том же году двадцатичетырехлетний философ выступает в Петербурге с публичными "Чтениями о Богочеловечестве", которые затем были напечатаны в "Православном обозрении". Эти ранние произведения Соловьева содержали достаточно полное изложение основных религиозно-общественных идей, которые в дальнейшем его творчестве менялись, в сущности, незначительно. Соловьев сближается с Достоевским, мысль которого написать целую серию романов, где церковь была бы "положительным общественным идеалом", казалась ему великой и своевременной. В литературе не раз отмечалось то обстоятельство, что Соловьев послужил для Достоевского прототипом одного из братьев Карамазовых - Ивана или Алеши. Вряд ли можно привести более зримый пример двойственности, глубочайшей противоречивости личности и взглядов Соловьева, внешность которого, многие черты характера, бытовое поведение - от Алексея, а причудливая игра ума - от Ивана Карамазова, чей труд о необходимости превращения всякого земного государства в церковь очень напоминает соловьевские суждения.
Вместе с Достоевским Соловьев внимательно читал рукопись своеобразного мыслителя Н. Ф. Федорова "Философия общего дела". В публицистике Соловьева федоровские представления о необходимости и возможности реального воскрешения всех людей, когда-либо живших на свете, почти не отразились, хотя их влияние было глубоким и долгим. В письмах к Федорову Соловьев был необычайно почтителен, он - ученик, благоговеющий перед наставником: "Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель". Еще в середине 1880-х годов Соловьев был уверен, что проект Федорова (в основе своей сугубо механистический и нехристианский) есть "первое движение вперед человеческого духа по пути Христову" со времени появления христианства (Письма, 2, 345). Только к концу 1880-х годов некое "нелепое происшествие" привело Соловьева к разрыву с Федоровым, которого он назвал "юродивым": "Его вздорный поступок своей неожиданностью перевернул все мое конкретное представление о человеке и сделал прежние отношения реально-невозможными" (Письма, 4, 118).
В 1880 году Соловьев защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию "Критика отвлеченных начал", в которой поставил перед собой задачу преодолеть односторонности материализма и идеализма. Для нашей темы важны два положения, сформулированные в работе. Во-первых, Соловьев выразил убеждение, которое позднее легло в основу всех его работ по этике, эстетике и литературной критике: "Нравственная деятельность, теоретическое познание и художественное творчество человека необходимо требуют безусловных норм или критериев, которыми бы определялось внутреннее достоинство их произведений, как выражающих собою благо, истину и красоту". Во-вторых, он писал о том, что "нормальное общество должно быть определено как свободная теократия" (II, с. VII, IX). Последний тезис предопределил содержание церковно-политических работ, написанных в 80-е годы, среди которых выделяются "История и будущность теократии" (1886) и вышедшая в Париже на
12
французском языке книга "Россия и вселенская церковь" (1889) {1}.
После защиты докторской диссертации перед Соловьевым, казалось, был открыт путь к профессорскому званию, к спокойной научной работе. Но вышло иначе. Видный сановник Делянов отклонил предложение назначить Соловьева на место профессора, ибо "он - человек с идеями" {2}. В Петербургском университете молодой философ читал лекции лишь в качестве приват-доцента. Не сложилась и его работа на Высших женских (Бестужевских) курсах, куда его пригласил Бестужев-Рюмин. Соловьев был отличный лектор, но многое не устраивало его в русской высшей школе: и обязательное следование утвержденной программе, и надзор чиновников, и низкий уровень философской подготовки слушателей. Более всего он тяготился неторопливым ритмом университетской жизни, где все почти заранее определено и известно. У Соловьева был страстный темперамент проповедника, общественного деятеля, бойца.
Большое впечатление произвела на современников речь Соловьева, сказанная 28 марта 1881 года. В то время русское общество переживало события 1 марта, когда народовольцы убили Александра II. В своей речи Соловьев противопоставил революционной теории, которую осудил совершенно недвусмысленно за материализм и насилие, народную веру, в основе которой лежит безусловное признание значения человеческой личности, воплотившей божественное начало. С позиций христианской этики он призывал русского царя помиловать убийц, в противном же случае царь "вступит в кровавый круг", и русский народ, народ христианский "от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути". Слова Соловьева были поняты однозначно - как призыв к помилованию цареубийц. По окончании лекции Соловьеву была устроена овация, которая его скорее огорчила, чем обрадовала. Он чувствовал, что его слушатели далеки от христианского идеала всепрощения. В письме к Александру III Соловьев протестовал против узкого понимания своего выступления, которое "было истолковано не только несогласно с моими намерениями, но и в прямом противоречии с ними" (Письма, 4, 150). По распоряжению Александра III дело было оставлено без серьезных последствий, неосторожному публицисту на некоторое время запретили чтение публичных лекций {3}. Вскоре, без прямой, правда, связи с речью 28 марта, прекратилась его преподавательская деятельность в Петербургском университете.
_____________
{1} Русский перевод книги был напечатан в Москве в 1911 г. Тогда же на русский язык было переведено и другое сочинение Соловьева, первоначально изданное в Париже,- "Русская идея".
{2} Радлов Э. Л. В. С. Соловьев: Биографический очерк // Соловьев В. С. Собр. соч. 2-е изд. Т. 10. С. XIV.
{3} См.: Щеголев П. Е. Событие 1 марта и Владимир Соловьев // Былое. 1906. No 3. С. 48-55.
13
2
Владимир Соловьев стал "вольным писателем", и для него началась бездомная, скитальческая жизнь, жизнь вне семьи и без семьи, к чему он вовсе не имел природной склонности, хотя и писал еще в 1873 году Кате Романовой: "Личные и семейные отношения всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании" (Письма, 3, 82). Соловьев жил то в Петербурге, то в Москве, гостил у своих друзей - особенно часто в имении Пустынька, принадлежавшем С. А. Толстой, вдове А. К. Толстого,- подолгу пребывал за границей. Некоторые биографы (В. Л. Величко, А. Ф. Лосев) рассматривают скитания Соловьева как нечто естественное и склонны в данной связи придавать определенное значение его дальнему родству по материнской линии с философом-странником XVIII века Г. Сковородой. Сам Соловьев за несколько лет до смерти, живя в Петербурге на квартире, что помещалась в казармах гвардейского полка, с грустной иронией писал редактору "Вестника Европы" М. М. Стасюлевичу: "В моем предстоящем некрологе, а также в посвященной мне книжке биографической библиотеки Павленкова будет, между прочим, сказано: "лучшие зрелые годы этого замечательного человека протекли под гостеприимною сенью казарм кадрового батальона лейб-гвардии резервного пехотного полка, а также в прохладном и тихом приюте вагонов царскосельской железной дороги" (Письма, 4, 71).
Одинокий, житейски неустроенный, Вл. Соловьев жил аскетом, иной раз спал прямо на досках, а чай пил в буфете Николаевского вокзала. Он мирился с неудобствами, как бы не замечал их, но на его здоровье они действовали губительно. На жизнь он зарабатывал литературным трудом, нередко нуждался. В его письмах часты расчеты гонораров, жалобы на срочную работу, на типографию, на корректорские ошибки. При этом Соловьев был щедр, безалаберен. Е. Н. Трубецкой вспоминал: "Не удивительно, что в житейских отношениях его всякий мог обойти и обмануть. Прежде всего, его со всех сторон всячески обирали и эксплуатировали. Получая хорошие заработки от своих литературных произведений, он оставался вечно без гроша, а иногда даже почти без платья. Он был _бессребреником_ в буквальном смысле слова, потому что серебро решительно не уживалось в его кармане; и это не только вследствие редкой своей _детской_ доброты, но также вследствие решительной неспособности ценить и считать деньги" {1}.