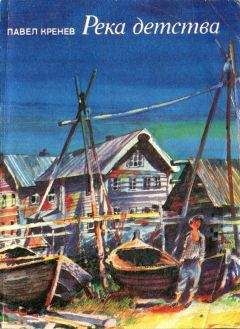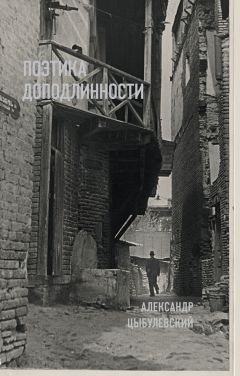Павел Нерлер - Con amore. Этюды о Мандельштаме
Свою натуральную жизненную философию (она же жизненная практика) он формулировал примерно так: «Жизнь прекрасна – так порадуемся ей!». У него был редчайший дар извлекать корни радости и красоты бытия из самых невероятных ситуаций. В сочетании с природным обаянием, громадными знаниями, жизненным опытом и живым юмором такое кредо делало Колю на редкость притягательным и желанным собеседником – и тем, кого называют: легкий человек.
Не удивительно, что судьба одарила его и «легкой рукой». Найти в фонде конвойных войск РГВА нужный тебе эшелон – ничуть не проще, чем иголку в стоге сена. А Коля нашел искомое – «мандельштамовский эшелон» 1938 года – и буквально со второй попытки!
В сущности, главное Колино призвание и амплуа – быть читателем, в особенности, читателем поэзии. Читал он жадно: внутри у него всегда была настроена система строгих эстетических и исторических критериев, позволявшая точно и тонко реагировать на прочитанное. Скрипичным ключом этой системы был для него Осип Мандельштам.
Коля стоял у истоков Мандельштамовского общества, был членом его Совета и неизменным участником почти всех проектов, всех заседаний и дискуссий о поэте, душой и инициатором всех пиров и посиделок в его честь. (В обществе, кстати, хранится собранная им специфическая коллекция – бутылки из-под напитков, упомянутых Осипом Эмильевичем в стихах и прозе.) Его участие гарантировало представленность и читательского взгляда на обсуждаемые проблемы.
Между прочим, свой вклад внес Коля и в комментирование Мандельштама. Так, в первом томе так называемого «черного Мандельштама» – двухтомника 1990 года, выпущенного издательством «Художественная литература», – в комментарии к строчке «И целлулоид фильмы воровской» из стихотворения «Еще далеко мне до патриарха..» можно прочесть: «целлулоидный рожок; с его помощью можно было звонить по телефону-автомату, не опуская 15-копеечную монету (сообщено Н.Л. Поболем)»15.
Тут налицо типичный для Поболя прием пропускания исторической фактографии или через личный опыт, или через личное отношение к лицам и событиям, попадающим в поле зрения.
Но все, что им делалось применительно к Мандельштаму, – делалось con amore, то есть с любовью и по любви, – так и только так!
«СЛОВО И КУЛЬТУРА»
Памяти Льва Шубина и Александра Морозова
К девятилетнему ходу этого издания я имел самое непосредственное касательство, будучи «автором и исполнителем» его главного замысла.
Сам замысел возник спонтанно и даже случайно – в коротком разговоре с Константином Симоновым. Кто-то из моих грузинских друзей пригласил в ЦДЛ на вечер грузинского искусства, в конце которого был показан замечательный документальный фильм «Пастухи Тушетии». Константин Михайлович или вел вечер, или просто выступал на нем.
Симонов был председателем Комиссии по литературному наследию Мандельштама, и после вечера я подошел к нему, представился и спросил, что он думает насчет дальнейшего (после «Библиотеки поэта») издания поэта, в частности его прозы. Он как-то обрадовался вопросу, справился о здоровье Надежды Яковлевны и дал свой телефон, попросив позвонить через несколько дней. За это время, как я потом понял, он прозондировал почву в «Советском писателе», благо его личный секретарь – Марк Яковлевич Келлерман – был юрисконсультом этого издательства.
Когда я ему позвонил, разговор был очень короток. Его суть: с изданием художественной прозы нужно повременить, а вот выпустить критическую прозу Мандельштама, наверное, можно и попробовать. «Пишите заявку. Все остальное Вам подскажет Келлерман, вот его телефоны…». Так комнатка юрисконсульта на первом этаже особняка на улице Воровского стала стартовой площадкой для книги «Слово и культура». Симонов же, как я теперь понимаю, готовил почву и в издательстве16, и в инстанции, которая тогда реально все решала в вопросах книгоиздания, – в Отделе пропаганды ЦК17.
Довольно быстро заявка, а вслед за ней и я перебрались на четвертый этаж – в редакцию критики и литературоведения, заведующей которой была Елена Николаевна Конюхова. Она же вверила книгу в руки одного из своих лучших редакторов – Льва Алексеевича Шубина, прекрасного специалиста по Платонову.
Не забыть той напряженно-радостной и деятельной атмосферы встреч с редактором книги и того необычайно трудного, на каждом шагу буксующего, но в итоге все же доведшего до конечной станции общения с коллегами-мандельштамоведами.
Больше всего разногласий было относительно состава и композиции книги. Тут образовался не один, как я надеялся, а сразу два фронта. С одной стороны – борьба с советским издательством, отстаивавшим свои охранительские представления (и тут Лев Шубин был моим безусловным союзником). Этот фронт был хотя и гнетущ, но как-то ожидаемо гнетущ. Редакция (и Конюхова, и сменившая ее Малхазова) делала почти все для того, чтобы книга продвигалась, но ни на какие «демарши» и «ва-банки», конечно же, готова не была.
Главная изжога шла от директора, Владимира Николаевича Еременко, и от рецензента (он же автор будущего предисловия к книге) – Марка Яковлевича Полякова, крупнейшего специалиста в области гадания на тему «нельзя или можно?».
И по сей день храню «выпавшую» из наборной рукописи страничку с синим номером: это ныне широко известный и густо цитируемый мандельштамовский ответ на анкету «Поэт о себе» газеты «Читатель и писатель». Внизу, неробким директорским карандашом, размашистым почерком – презанятный автограф: «Что это нам предлагают?!»
Воистину: главный редактор о себе!
Но порезвился тогда его карандашик изрядно. Рукопись на конечной стадии похудела листа на полтора-два, после чего – дабы выправить новый крен – я и сам сократил ее почти на столько же. Прав был Лев Алексеевич, говоривший, разливая чай у себя на кухоньке в Ясенево: мы сели играть в шахматы с чертом и мы, конечно, не выиграем, но и не играть – нельзя!
Компромиссы, на которые пришлось в итоге пойти (отсутствие ряда важнейших статей, вынужденно-постыдные купюры в двух или трех местах, неупоминание наших западных предшественников18), – отягощали и отягощают мою совесть.
Ведь я же мог – пускай и ценой невыхода книги! – не согласиться с мнением Еременки и прочих «товарищей» и забрать рукопись.
Где ты, граница допустимого конформизма?..
Это и было предметом дискуссий на «втором фронте». Если отвлечься от вопросов персональных и организационных, в поисках ответа на которые принимало участие еще несколько человек, то этот второй фронт держал один Саша Морозов. Искрящий, как оголенный провод, он полагал, что если это «избранное» – то без таких-то и таких-то текстов оно совершенно непредставимо. И если издательство будет настаивать на «без них» – то лучше вообще ничего не издавать.
…Даже правое дело скривится
и в осадке останется ложь,
если ты не успеешь открыться
и избытка в душе не найдешь.
Так запомни пещеру-квартиру,
одиночества жуткий разбег.
Там живет и не балует с миром
предпоследний в миру человек.
Он тебя наставлял – ты не понял,
он оставил тебя – ты ослеп.
Ты, быть может, себя проворонил,
променял на изглоданный хлеб19.
Для Морозова «любить Мандельштама» означало не издавать его, для меня – издавать. Я прекрасно понимал мотивы морозовского радикализма. Но я не разделял их, и у меня была своя правота. Я считал, что компромисс тут и неизбежен, и возможен. И что чем ближе его линия пройдет к идеальному составу – тем лучше. И именно в этом приближении я и видел свою задачу.
Вот тогда-то меня и поддержали Аркадий Акимович Штейнберг, Эдуард Григорьевич Бабаев и Николай Поболь20. В своем дневнике, за 8 января 1980 года, я недавно прочел такую запись: «Сегодня ко мне заходил Поболь, и я спросил его об его отношении к политике издания О.М. (Поболь же – типичный читатель, адресат издания). Он сказал так: “Чем больше – тем лучше. А читатель разберется сам”. И он прав, по-моему».
Для меня тогда это был и новый ракурс (читатель как критерий!), и поистине колоссальная – экзистенциальная – помощь, оказавшаяся к тому же решающей!
К сожалению, Лев Алексеевич не дожил до выхода книги: книгу из его рук подхватила и выпустила в свет его вдова, Елена Шубина…
ЧЕРНЫЙ ДВУХТОМНИК И СИНИЙ ЧЕТЫРЕХТОМНИК
Памяти Сергея Аверинцева
и Андрея Михайлова
Татьяне Бедняковой, Александру Никитаеву
и Михаилу Яковенко
В начале 1990-х годов стихи Осипа Мандельштама снялись с места и дружною стайкой перелетели из-под узнаваемых коленкоровых корешков самиздата и украшенных знакомым профилем работы Зарецкого темно-серых обложек «американского» собрания под двухсотысячные книжные переплеты черного худлитовского двухтомника – первого издания, претендовавшего на неслыханное до этого сочетание полноты и научности21.