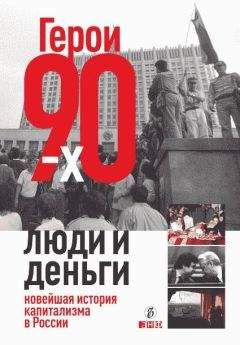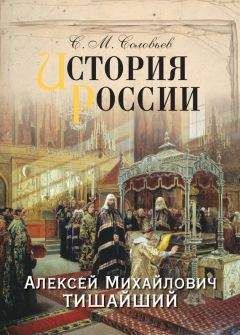Генрих Гейне - Путевые картины
Горы стали еще круче, еловый лес колыхался внизу, как зеленое море, а вверху, по голубому небу, плыли белые облака. Дикий облик местности как бы умерялся ее однообразием и простотою. Природа, подобно истинному поэту, не любит резких переходов. Облака при всей кажущейся причудливости сохраняют белый или все же гармонирующий с голубым небом и зеленою землею оттенок, так что все краски местности сливаются друг с другом, как тихая музыка, и созерцание природы действует всегда умиротворяюще и успокаивающе. Блаженной памяти Гофман* изобразил бы облака пестрыми. Подобно великому поэту, природа также обладает способностью с наименьшими средствами достигать наибольших результатов. В ее распоряжении только солнце, деревья, цветы, вода и любовь. Правда, если этой любви нет в сердце у созерцателя, то все в целом должно представиться ему довольно жалким; в таком случае солнце, оказывается, содержит столько-то миль в диаметре, деревья пригодны для отопления, цветы классифицируются по тычинкам, а вода — мокрая.
Маленький мальчик, собиравший в лесу хворост для своего больного дяди, указал мне на деревню Дербах, низенькие хижины которой с серыми крышами растянулись по долине на расстоянии получаса ходьбы. «Там, — сказал он, — живут зобатые дураки и белые негры», — последним именем народ окрестил альбиносов. Мальчик был в особенно добром согласии с деревьями, он приветствовал их как хороших знакомых, и они, казалось, шелестом отвечали на его приветствия. Он насвистывал, как чижик, со всех сторон ему отвечали свистом другие птицы, и, прежде чем я мог заметить, он ускакал босыми ножонками со своей вязанкой хвороста в лесную чащу. «Дети, — подумал я, — моложе нас, помнят еще, как сами они тоже были когда-то деревьями и птичками, и потому способны еще понимать их; а наш брат уже слишком для этого стар, голова у нас чересчур перегружена заботами, юриспруденцией и скверными стихами». При вступлении моем в Клаусталь в памяти моей живо возникло то время, когда все было иначе. В этот милый горный городок, которого и не видать, пока не приблизишься к нему вплотную, я вошел как раз, когда колокол пробил двенадцать и дети весело выбежали из школы. Славные ребята, почти все краснощекие, голубоглазые, с льняными волосами, прыгали и ликовали; они пробудили во мне болезненно радостное воспоминание о той поре, когда я, таким же маленьким мальчиком, не смел до полудня подняться с деревянной скамьи затхлой католической монастырской школы в Дюссельдорфе и должен был немало терпеть латыни, побоев и географии, а потом так же неистово ликовал и веселился, едва только старый францисканский колокол бил, наконец, двенадцать. Мальчики узнали по моей сумке, что я нездешний, и гостеприимно меня приветствовали… Один рассказал мне, что у них только что был урок закона божия, и показал Королевский ганноверский катехизис, по которому их спрашивают о христианской вере. Книжка оказалась прескверно напечатанной, и я боюсь, что уже поэтому догматы веры должны производить на детские умы впечатление чего-то уныло-клякспапирного; мне также страшно не понравилось, что таблица умножения*, значительно расходящаяся, я полагаю, с учением о св. Троице[7], напечатана в самом катехизисе, на последней странице, благодаря чему дети уже в юном возрасте могут впасть в греховные сомнения. В Пруссии мы на этот счет много умнее, и, при свойственном нам усердии к обращению на путь истины тех людей, что так сильны в арифметике, остерегаемся печатать таблицу умножения в конце катехизиса.
Я пообедал в Клаустале в гостинице «Корона». Мне подали по-весеннему зеленый суп с петрушкой, фиалково-синюю капусту, жареную телятину, величиною с Чимборасо в миниатюре, а также особого рода копченых сельдей, называемых бюкингами, по имени изобретателя их, Вильгельма Бюкинга, умершего в 1447 году и пользовавшегося благодаря своему изобретению таким уважением Карла V, что последний anno[8] 1556 ездил из Миддельбурга в Бивлид, в Зеландию, с единственною целью взглянуть на могилу этого великого человека. Как великолепно такое блюдо, когда ешь его, обладая притом соответствующими историческими сведениями! Но кофе был испорчен для меня: какой-то молодой человек подсел ко мне со своими рассуждениями и болтал так ужасно, что молоко на столе скисло. Это был молодой купчик о двадцати пяти пестрых жилетах, с таким же количеством золотых печаток, перстней, булавок и т. д. Он походил на обезьяну, которая надела красную куртку и уверяет самое себя: костюм делает человека. Он знал на память множество шарад, также и анекдотов, которые и рассказывал всегда совершенно некстати. Он спросил меня, что нового в Геттингене, и я рассказал ему, что там перед отъездом моим появился декрет академического сената, запрещающий, под угрозою штрафа в три талера, обрезать собакам хвосты, ибо в летнее время, когда бешеные собаки бегают, поджав хвосты между ног, их можно по этому признаку отличить от небешеных, что было бы невыполнимо в случае, если бы у них вовсе не было хвостов. Пообедав, я собрался в путь, намереваясь посетить рудники, сереброплавильни и монетный двор.
В сереброплавильнях я, как это часто бывало со мной в жизни, упустил блеск серебра. На монетном дворе дело пошло лучше, и мне привелось увидеть, как делаются деньги. Правда, дальше этого мне никогда не удавалось пойти. На мою долю неизменно выпадала в таких случаях роль наблюдателя, и думаю, если бы талеры начали падать с неба, я бы получил лишь пробоины в голове, в то время как сыны Израиля с радостью душевной стали бы собирать серебряную манну. С комически смешанным чувством почтения и умиления я рассматривал новорожденные блестящие талеры, взял в руки один, только что вышедший из-под чекана, и произнес: «Юный талер! Какие судьбы тебя ожидают! Сколько добра и зла сотворишь ты! Как будешь ты защищать порок и пятнать добродетель, как будут любить тебя и затем проклинать! Каким помощником будешь ты в праздности, сводничестве, лжи и убийстве! Как неустанно будешь ты ходить по рукам, чистым и грязным, на протяжении столетий, пока, наконец, отягченный преступлениями и усталый от грехов, не успокоишься, вместе с присными, в лоне Авраама, который расплавит тебя, очистит и преобразит для новой и лучшей жизни!»
Два главных клаустальских рудника — «Доротея» и «Каролина» — показались мне при осмотре столь интересными, что я должен рассказать о них подробно.
В получасе ходьбы от города находятся два больших темных здания. Там вас сразу встречают рудокопы. На них темные, обычно синевато-стального цвета просторные блузы, спускающиеся ниже живота, такого же цвета штаны, кожаные, завязывающиеся сзади передники и зеленые поярковые шапочки без полей, вроде усеченного конуса. В такой же костюм, только без передника, одевают и посетителя, и один из рудокопов — штейгер, засветив свою лампочку, ведет его к темному отверстию, похожему на трубу камина, опускается до уровня груди, дает указания, как держаться на лестницах, и приглашает следовать за ним безбоязненно. Опасного ровно ничего нет, но вначале, когда не имеешь представления о горном деле, это кажется иначе. Своеобразное впечатление создается уже оттого, что надо раздеться и облачиться в мрачную арестантскую одежду. Затем предстоит спускаться вниз на четвереньках, причем темное отверстие так темно, и бог весть, когда кончится лестница. Вскоре замечаешь, однако, что это не единственная ведущая в черную бесконечность лестница, что таких лестниц, по пятнадцать — двадцать ступенек каждая, много и каждая упирается в небольшую дощатую площадку, где можно остановиться и откуда новая дыра ведет на новую лестницу. Сначала я спустился в «Каролину». Это самая грязная и противная Каролина, какую мне пришлось видеть: ступеньки покрыты мокрой грязью. Так и спускаешься с одной лестницы на другую, а штейгер впереди неизменно уверяет, что это вовсе не опасно, надо только крепко держаться руками за ступеньки, не смотреть вниз, не поддаваться головокружению и ни в каком случае не становиться на боковую площадку, возле которой с жужжанием тянется спусковой канат и откуда две недели тому назад какой-то неосторожный человек полетел вниз и сломал себе, к сожалению, шею. В самом низу бессвязный шум и гул, непрестанно натыкаешься на балки и на канаты, которые движутся, подымая бочки с добытою рудою или подавая кверху рудничную воду. Время от времени приходится проникать в высеченные в стенах ходы, называемые штольнями, где находится руда и где одинокий рудокоп, проводящий там целые дни, с великим трудом откалывает от стен куски руды. Я не добрался до самого низу, где, уверяют некоторые, слышно, как американцы кричат у себя: «Ура, Лафайет!»* Между нами говоря, глубина, которой я достиг, показалась мне вполне достаточною: здесь непрерывное жужжание и гудение, жутко движутся машины, журчат подземные ключи, со всех сторон стекает вода, от земли поднимаются пары, и свет рудничной лампочки все бессильнее и бледнее в окружающей ночи. По правде, я был оглушен, еле дышал и с трудом держался на скользких ступеньках. Приступов так называемого страха я не испытал, но, что довольно странно, внизу, в глубине, мне вспоминалась пережитая мною в прошлом году, приблизительно в эту же пору, буря в Северном море, и тут я подумал, что в сущности приятно и уютно, когда корабль этак раскачивается из стороны в сторону: ветры разыгрывают свои трубные мелодии, матросы поднимают веселую возню, и милый, вольный воздух господень любовно обвевает все это. Да, воздух! В погоне за воздухом я взобрался по дюжине лестниц кверху, и мой штейгер провел меня узким и очень длинным, высеченным в горе ходом в рудник «Доротея». Здесь свежее и веселее, лестницы чище, но зато длиннее и круче, чем в «Каролине». На душе у меня стало легче, особенно после того как я снова обнаружил следы живых людей. В глубине мелькнули блуждающие огоньки: рудокопы с лампочками медленно подымались вверх, говорили: «Счастливо подняться!» и, приветствуемые нами в тех же выражениях, двигались мимо нас, выше; словно какое-то дружески мирное и вместе с тем мучительно загадочное воспоминание, мне западали в душу глубокие и ясные взоры всех этих бледных, спокойно-серьезных, озаренных таинственным отсветом рудничных лампочек юношей и стариков, проработавших целый день в своих темных, уединенных шахтах и теперь тянувшихся к милому дневному свету, к глазам жен своих и детей.