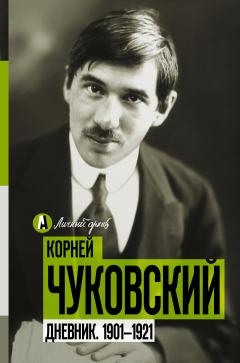Корней Чуковский - Дни моей жизни
Горький очень утомлен. Я сократил свой визит до минимума — и ушел к Тихонову — в квартиру его тестя — черт знает где! Там меня угостили необыкновенным обедом: вареное мясо, мясной суп, чай с сахаром — и мы выработали программу заседания в Доме Искусств. Итак, Дом Искусств дает мне в месяц 7 000, Гржебин — 22 500, «Картины» — 6 000, «Всемирная Литература» — 6 000, итого 41 500. Откуда же я беру остальные 60 000? Сверяю письма Щедрина. Очень хочется писать статьи — о Блоке. Вчера написал новую версию «Персея».
25 ноября. Особенность моей теперешней деятельности в том, что каждый день я начинаю какую-нб. новую работу и, не кончив, принимаюсь за следующую. Сейчас, напр., у меня на столе: редактура «Гулливера» (Полонской), редактура Диккенса в переводе Иринарха Введенского, список ста лучших книг для издательства Гржебина, «Принципы художественного перевода», статья о письмах Щедрина к Некрасову, докладная записка о Студии и т. д., и т. д.
27 [ноября]. Третьего дня заседание во «Всемирной». Горький — Марье Игнатьевне очень сурово: «И откуда у вас берется время заниматься такими пустяками (с очаровательной улыбкой), да! да! такими пустяками». (Оказывается, М.И. прислала к Горькому врача-хирурга и тот нашел, что Горькому нужно лечь немедленно в постель. Теперь Горький благодарит М.И. — называя себя и свою болезнь пустяками.) Заседание по Историческим картинам. Амфитеатров читает свою пьесу о Ваське Буслаеве. Пьеса отличная — чуть ли не лучше всего, что написал Амфитеатров. Тихонов довольно бестактно делал старику замечания. Амфитеатров, читая, поглядывал украдкой на одного только Горького: прочтет удачное, выигрышное место и взглянет. Горький очень нежен с Ольденбургом — теперь у них медовый месяц. Ольденбург старается изо всех сил. После заседания «Всемирной Литературы» — Горький с Ольденбургом уезжают в «Асторию» — в экипажике Горького. Потом я, Блок, Гумилев, Замятин и Лернер отправляемся в «комнату, где умывальник» — к машинисткам — и начинаем обсуждать программу ста лучших писателей. Гумилев представил импрессионистскую: включен Денис Давыдов (потому что гусар), и нет Никитина. Замятин примкнул к Гумилеву. Блок стоит на исторической точке зрения — и составил программу идеальную: она и свежа, и будоражит, в ней нет пошлости — и научна. Мы спорили долго. Гумилев говорит по поводу моей: это провинциальный музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет. Я издевался над гумилевской, но в глубине души уважал его очень: цельный человек. Вообще все заседание носило характер гумилевской чистоты и наивности. Блок — со своей любовью к системе — изготовил несколько табличек: сколько поэтов, сколько прозаиков, какой процент юмористов и т. д. Я включил в свою программу модернистов. «К чему вы этих молодых людей включили?», «я в этих молодых людях ничего не понимаю», — твердил Блок. Я наметил для Сологуба 2 тома. Блок: «Неужели Сологуб есть 1/50 всей русской литературы». На следующий день (вчера) мы встретились на заседании Дома Искусств, Блок продолжал: «Гумилев хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского». Я говорю: а Тютчева? «Ну что такое Тютчев? Коротко, мало, всё отрывочки. К тому же он немец, отвлеченный». Я взялся в Доме Искусств организовать студию, библиотеку, детский театр. И уже изнемог: всю ночь не спал — в темноте без свечи думал об этих вещах — а про литературу и забыл. Надо поскорее сбыть с рук эти работы, а то захвораю от переутомления. На заседании Дворца был Мережковский, который говорил мне, кокетничая: «Ну и надоел я вам, воображаю. Я самому себе надоел в аспекте Чуковского. Надоел, надоел, не отрицайте. Надоел ужасно! Надоел! Но вы — добрый. Вот З.Н. (Гиппиус) не верит, что вы добрый, а я знаю, вы добрый, но насмешливый. Насмешливый и добрый!» — все это громко, за столом, вдохновенно.
28 ноября. Я забыл записать, что при открытии Дома Искусств присутствовал С.Ольденбург. Я познакомил его с Немировичем-Данченкой. Ольденбург протянул ему руку, а потом отвел меня в сторону:
— Неужели он еще жив. Я думал, он давно умер!
Я почему-то рассердился:
— Что ж, вы думаете, я их с того света выписываю? На кладбище посылаю им повестки?
29 ноября. Горького посетила во «Всемирной Литературе» Наталия Грушко — и беседовала с ним наедине. Когда она ушла, Горький сказал Марье Игнатьевне: «Черт их знает! Нет ни дров, ни света, ни хлеба, — а они как ни в чем не бывало — извольте!» Оказывается, что у Грушко на днях родилась девочка (или мальчик), и она пригласила Горького в крестные отцы… «Ведь это моя жена, — вы знаете?» Как-то пришла бумага: «Разрешаю молочнице возить молоко жене Максима Горького — Наталье Грушко!» Блок написал пьесу о фараонах — Горький очень хвалил: «Только говорят они у вас слишком по русски, надо немного вот так» (и он вытянул руки вбок — как древний египтянин — стилизовал свою нижегородскую физиономию под Анубиса) — нужно каждую фразу поставить в профиль. Было у нас заседание по программе для Гржебина. Горький говорил, что все нужно расширить: не сто книг, а двести пятьдесят. Впервые на заседании присутствовал Иванов-Разумник. облезлый (в калошах), с прыщами на носу, молчаливый, чужой. Блок очень хлопотал привлечь его на наши заседания. Я научил Блока — как это сделать: послать Горькому письмо. Он так и поступил. Теперь они явились на заседание вдвоем, — я отодвинулся и дал им возможность сесть рядом. И вот — чуть они вошли — Горький изменился, стал «кокетничать», «играть», «рассыпать перлы». Чувствовалось, что все говорится для нового человека Горький очень любит нового человека — и всякий раз при первых встречах волнуется романтически — это в нем наивно и мило. Но Иванов-Разумник оставался неподатлив и угрюм. — Потом заседание «Всемирной Литературы» — а потом я, Тихонов (Боба сейчас читает на кухне былины. Он страшно любит былины — больше всех стихов) и Замятин в трамвае — в Дом Искусств. За столом — Бенуа, Добужинский, Ходасевич, Анненков, В.Н.Аргутинский. Мы устроили свое заседание в комнатке прислуги при кухне. Я безумно хотел есть, но после заседания пошел все же пешком к Сазонову — тот лежит больной — и оттуда через силу домой. От усталости — почти не спал. Вертятся в голове разные планы и мысли — ни к чему, беспомощно, отрывочно.
30 ноября, воскресение. Сижу при огарке и пишу об Иринархе Введенском. Для «Принципов художественного перевода».
Блок, когда ему сказали, что его египтяне в «Рамзесе» говорят слишком развязно, слишком по-русски, — сказал: «Я боюсь книжности своих писаний. Я боюсь своей книжности». Как странно — его вещи производят впечатление дневника, — раздавленных кишок. А он — книжность! Устраиваю библиотеку для Дома Искусств. С этой целью был вчера с Колей в Книжном фонде — ах, как там холодно, хламно, безнадежно. Конфискованные книги, сваленные в глупую кучу, по которой бродит, как птица, озябшая девственница — и клюет — там книжку, здесь книжку, перекладывает в другую кучу. Она в валенках, в пальто, в перчатках. Начальник девицы — Иван Иванович, в запачканной летней шляпе (фетровой с полями), с красным носиком — медленный и, кажется, очень честный. Когда я спросил, не найдется ли у них для Студии Потебня или Веселовский, он сказал:
Нашелся бы, если бы Алексей Павлович не интересовался этими книгами. — Алексей Павлович (Кудрявцев), комиссар библиотечной комиссии, — вор и пьяница — я сам видел, как в книжной лавке на Литейном какой-то букинист совал ему из-за прилавка бутылку; у меня Кудрявцев зажилил сахар — на два дня и до сих пор не отдал. Те книги, которыми он интересуется, попадают к нему — в его собственную библиотеку. В Фонде порядки странные. Книги там складываются по алфавиту — и если какая-нб. частная библиотека просит книги, ей дают какую-нибудь букву. Я сам слышал, как там говорили:
— Дай пекарям букву Г.
Это значит, что библиотека пекарей получит Григоровича, Григорьева, Герцена, Гончарова, Гербеля — но не Пушкина, не Толстого. Я подумал: спасибо, что не фиту.
3 декабря. Вчера день сплошного заседания. Начало ровно в час — о программе для Гржебина. Опять присутствует Иванов-Разумник. Я пришел, Горький уже был на месте. Когда мы заговорили о Слепцове, Горький рассказал, как Толстой читал один рассказ Слепцова — и сказал: это (сцена на печи) похоже на моего Поликушку, только у меня похуже будет. Одно только Толстому не нравилось: «стеженое одеяло»{37}, Толстой страшно ругался. Когда мы заговорили о Загоскине и Лажечникове — Горький сказал: «Не люблю. Плохие Вальтер Скотты». Опять он поражал меня доскональным знанием отечественной словесности. Когда зашла речь о Вельтмане, он сказал: а вы читали Софью Вельтман, жену романиста? Замечательный роман в «Отечественных Записках» — с огромным знанием эпохи — в 50-х гг. издан{38}. Блок представил список, очень подробный, по годам рождения — и не спорил, когда, напр., Дельвига из второй очереди перевели в первую. Но время чтения программы Иванова-Разумника — произошел инцидент. Иванов-Разумник сказал: «Одну книжку — бывшим акмеистам». Гумилев попросил слова по личному поводу и спросил надменно: кого именно Иванов-Разумник считает бывшими акмеистами? Разумник ответил: — Вас, С.Городецкого и других. — Нет, мы не бывшие, мы… — Я потушил эту схватку. В начале заседания по «Картинам» (Ольденбург не пришел) Горький с просветленным и сконфуженным лицом сказал Блоку: