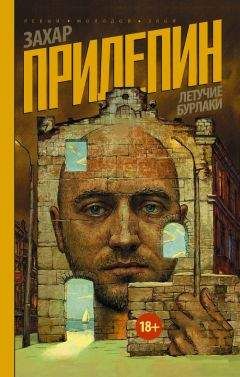Захар Прилепин - Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями
В Жунглях живет подросток по прозвищу Франц-Фердинанд, под лопатками у него странный нарост – вроде как крылья невыросшие. Подросток все время пытается взлететь, прыгая с деревьев и сараев, и каждый раз ломает то руку, то ногу. В конце концов, от бесконечных переломов умирает – и все тот же умный читатель догадывается, что ангелам в наших жунглях и жить нельзя, и улететь отсюда они не в силах. Одни местные крокодилы здесь уживаются, им и достается вера, надежда и любовь – в той мере, в какой крокодилы способны осознать эти вещи.
Буйда своим писательством наслаждается, это чувствуется. Нарисует строчку, отложит ручку, воскликнет шепотом: «Ай да сукин сын!»
«Трахаться с Камелией было то же самое, что воевать со всей Россией – со всей ее ленью, пьянью и дурью, с ее лесами, полями и горами, великими реками и бездонными озерами, с медведями, зубрами и соболями…» Камелия – это такая непомерная, жирная русская девка, надо пояснить. Не сукин ли сын!
И дальше про красу Камелии: «Крутой рыжий лобок пылал, как храм Божий на солнце».
Даже не сукин сын, а натуральная сучара, как выражается один из персонажей Буйды.
Он со всеми героями так: распишет их в самой отвратительной мерзости – и любуется, любуется.
А надо мудрости автору досыпать – и такой товар найдется в его лавочке.
«Ну хотя бы верить надо! А кто верит? Ты, что ли? Да ты даже не знаешь, кто такой Бог», – говорят одной героине.
Она отвечает: «Кабы знала, то и не верила б».
Вот-вот. Не то беда, что Буйда относится к людям с любовной злобой, а то беда, что Буйда слишком знает, как сочинять хорошую прозу.
Дмитрий Быков
ЖД
(М. : Вагриус, 2007)
Вообще огромный роман «ЖД» сконцентрирован в одном абзаце романа Пелевина «Чапаев и Пустота». Цитирую:
« – А скажите, Анна, какая сейчас ситуация на фронтах? Я имею в виду общее положение.
– Честно говоря, не знаю. Как сейчас стали говорить, не в курсе. Газет здесь нет, а слухи самые разные. Да и потом, знаете, надоело все это. Берут и отдают какие-то непонятные города с дикими названиями – Бугуруслан, Бугульма и еще… как его… Белебей. А где это все, кто берет, кто отдает – не очень ясно и, главное, не особо интересно. Война, конечно, идет, но говорить о ней стало своего рода mauvais genre».
У Быкова – о том же, просто мелодия Пелевина положена на концепцию Быкова.
Нежно любимый мною Дмитрий Львович так давно носится с идеей, легшей в основу этого шестисотстраничного тома, что сюжет книги я представлял себе заранее и даже спародировал быковское творение в своем романе «Санькя» еще до выхода «ЖД».
Идея книжки, в общем, такова: в России издавна борются за власть две силы: варяги (читай – русские) и хазары (читай – евреи). Обе силы отвратительны, но, положа руку на сердце, скажу, что варяги в книге выглядят куда отвратительнее хазар. Хазары – все-таки люди, но с огромным количеством вопиющих недостатков. А варяги – просто мерзкое зверье. С редкими исключениями.
Страдает от борьбы этих двух сил коренное население, у которого свой язык (на нем говорил Хлебников, о нем знал Платонов), своя тихая, милая, неинициативная душа.
Россия идет по одному заданному кругу: от диктатуры к оттепели, от оттепели к застою, от застоя к революции – и опять по кругу. Страна наша вовсе не имеет истории – в отличие от всех иных стран, – но имеет замкнутый цикл. В этом виноваты, повторюсь, варяги и хазары и тихая леность коренного населения, которое терпит первых и вторых.
В финале романа три варяга сходятся с тремя хазарками и возникает надежда на выход из круга, который, по сути, тупик.
Роман написан неряшливо, и мне кажется, что нарочито неряшливо, в нем есть несколько в меру смешных шуток (впрочем, на грани фола: «Хеллер отдыхал, Гашек сосал, и я тоже что-то плохо себя чувствую», – такая вот у нас история в России), несколько воистину вдохновенных мест и пара великолепных стихов; в том, что Быков – лучший современный поэт, я нисколько не сомневаюсь.
Вообще это знаковая, полезная и важная книга. Хотя, конечно, мне, как закоренелому варягу, претит сама идея хотя бы в литературе уравнять в правах хазар и, как бы это помягче сказать, титульную нацию. У нас еще сто национальностей в России живет, ничем не хуже одаренных во всех сферах потомков каганата. Тем более что Быков явно относится к своей идее крайне серьезно. А я – несерьезно. История у нас есть, она вдохновенная и прекрасная, Быков обнаружил в ней круг, но если долго смотреть на нее, то можно обнаружить треугольник, параллелепипед и даже что-то вроде зигзага иногда.
Олег Ермаков
Арифметика войны
(М. : Астрель, 2012)
Грубо говоря, у нас есть писатель, который пишет как Толстой.
Толстой – ведь это абсолютное достоинство и еще это полное отсутствие позы, кокетства, надуманности – чем грешат, наверное, большинство писателей.
Ермаков не грешит всем этим.
Еще он избегает ложных эффектов. Зато ощущение соучастия и достоверности при чтении ермаковской прозы – удивительное.
Мир, согласно Ермакову (и Толстому тоже), – не очень хорош, зачастую так вообще ужасен – но за всем этим, не на зримом пространстве текста, а где-то за этим пространством присутствует никак не формулируемое автором мирооправдание, миропонимание.
Война гадкая, грязная, она травит и затравливает душу. Мир без войны суетлив, хвастлив, ленив, глуп. Война смотрит на мир презрительно и тоскливо. Мир смотрит на войну отчужденно, но втайне желает быть на нее похожим.
Впрочем, все это лишь внешняя, пожалуй, даже неважная картина. Где-то там, в глубине, кроется что-то другое. Нет, не гармония, но как минимум… арифметика.
То есть душевного покоя тут наверняка искать не стоит – но можно хотя бы разобраться с механикой бытия. В этом есть смысл!
После изданного в конце восьмидесятых сборника замечательных афганских рассказов и безусловного шедевра – романа «Знак зверя», тоже об Афгане, – Ермаков, по большому счету, уходит от военной тематики.
Сначала в леса (роман «Свирель вселенной»), потом на интеллигентские кухни (роман «Холст»). И вот, проделав полный круг, возвращается в ту же точку, откуда выдвинулся двадцать пять лет назад, начиная писать прозу.
В этой точке мир встречает войну.
Этот путь объясним: война, и тем более война на Востоке, неизбежно дает умному художнику материал, который больше нигде не найдется. Родившийся в Смоленске, работавший до армии на Байкале лесником, Ермаков (с точки зрения восточного мира – «северный человек») попадает в Афган, где на его сознание обрушивается такое количество красок, что теряется рассудок, а ошпаренное зрение какое-то время вопит и страдает.
Но потом эти краски никуда не исчезнут, они так и останутся в голове. Отличие в этом смысле любого художника, видевшего Восток (или, скажем, Африку), очевидно: Киплинг и Гумилев имели необыкновенную фору и умели работать с большим количеством цветов, чем иные.
Но в случае «Арифметики войны» Ермаков совершает неожиданную для художника вещь: он делает свою палитру более сухой и жесткой.
Судя по «Знаку зверя», он умел, как никто, писать живописно, сочно, влажно, нарочито ломая стилистику, изящно, будто играя джаз, сбивая ритм. В отличие от большинства современных литераторов Ермаков, как мне кажется (я точно не знаю, но почти уверен), хорошо знает музыку и понимает живопись. Это редкость! Толстой вот тоже музыку знал отменно и в живописи разбирался. Теперь многие сочинители это считают неважным – ну, и пишут подобающе. Без слуха и зрения, одним пером.
И вот, несмотря на все эти навыки, в «Арифметике войны» Ермаков заметно убавляет цветов – выигрывая при этом в резкости и точности. Это опять же толстовский подход.
Хотя сознательно Ермаков ориентируется (по крайней мере, ориентировался) совсем на другого писателя, оказавшего на него влияние не меньшее и в чем-то определяющее: это Михаил Пришвин.
Такая стратегия, быть может, для писателя даже лучше и умней: если ты сознательно ориентируешься на Толстого (или Достоевского), ты заведомо проиграл. Надо понимать меру и масштаб.
Благая пришвинская тень заметна и в прочитанном многими «Знаке зверя», и в прочитанном куда менее внимательно, но не менее интересном и важном романе «Свирель вселенной».
В каком-то смысле Пришвин Ермакову, быть может, даже нужнее, потому что Толстой рано или поздно стремится рассмотреть все происходящее сверху, с высоты, чтоб пространство обзора было огромным. Толстой словно бы берется описывать не череду со-бытий, а всебытие сразу.
Ермакову же, как и Пришвину, вполне достает человека и того, что окружает его. Пришвин, надо сказать, был социолог куда больший, чем, например, этнограф.
Ермаков тоже социолог, достаточно скрупулезный, очень небрезгливый: он ничего не стесняется, берет все подряд – газеты-малотиражки, приметы скучного быта, закоулки нелепых судеб.