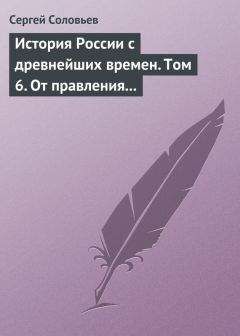Василий Белов - Когда воскреснет Россия?
Борис Викторович Шергин записал однажды в своем дневнике: «…в разуме Божием, то есть в разуме вечном, всемогущем, всеведающем и всезнающем понятия «память» и «жизнь» равнозначуще-равносильны и восполняют одно другое». Если уж на таком высоком уровне, на уровне Божественного разума эти понятия восполняют друг друга, то что говорить о разуме обычном, человеческом? Конечно, «философ» радиостанции «Свобода» или из родственного ей александро-яковлевского ведомства тотчас кинется опровергать Шергина, скажет, что в понятии «разум» иерархии нет и что градуировке оно не подвластно и пр. И прихлопнет в зародыше неприятную для него тему. Но я не собираюсь общаться с «философом». Мне хочется поговорить не с «философом», а с ежедневным потребителем «философской» жеванины, то есть со зрителем александро-яковлевской телевизии. (Он же усердный слушатель попцовских радиобрехунов.)
Итак, Борис Викторович Шергин говорит не только о родстве, о взаимной необходимости друг для друга «жизни» и «памяти». Он говорит еще и о их зависимости от «разума». И если по Шергину жизнь и память, дополняя друг друга, зависят от вечного и всемогущего Разума, то можно ли сказать, что смерть и беспамятство подсобляют друг другу и куда глаза глядят убегают от разума? Что смерть и беспамятство родные детки безумия?
«Народ, теряющий память, теряет жизнь». Правота древнего изречения подтверждается для меня не только фразой из шергинского дневника. Об этом же вопиет все, что происходит в России. Странная забывчивость нашего народа — чем объяснить ее? Не природной ли добротой, которую краснобаи «Свободы» и александро-яковлевского телевидения то и дело называют извечным рабством? Конечно, и добротой. Отсутствием в русских людях свойства мстительности. Но почему наше христианское всепрощенчество зачастую оборачивается не общественно-политической гармонией, а еще большим хаосом?
Расстрел защитников Конституции осенью 1993 года забыт. Убийцы остались в руководящих креслах наедине со своей совестью. Комиссия по расследованию расстрела распущена. Что это, господа депутаты? Доброта и отсутствие мстительности? Нежелание новых противостояний? А может, просто лень? Или страх, обычная трусость? По-моему, и то, и другое, и третье, и четвертое. Но я не о депутатах… Я думаю сейчас о нашем непонятном народе, о миллионах симплициусов, которые так легко дают себя обмануть и так быстро прощают обманщиков. Я вспоминаю бурые пятна на асфальте улицы Королева. Вспоминаю Сашу Седельникова, расстрелянного снайпером у Белого дома. Дожди и снега давно смыли с асфальта кровь и слезы, пролитые в октябре 1993 года. Но кто и что смывает следы преступлений? Конечно, это они, бесы, бесплотные существа, материализованные в типографских и электронных средствах массовой информации. С какой настойчивостью, с какой веселой ловкостью лгут наши циники, вцепившись в радиомикрофоны! Как нахально испытывают они наше терпение!
О бесах знал еще Пушкин:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Достоевский посвятил им целый роман. Но большинство симплициусов не читают романов. Большинство занято самым трудным на свете делом — выживанием.
Иногда мне кажется, что в этот раз русский народ обманула прежде всего его столица — белокаменная Москва. Кажется, что Москва уже не столица России, а город «желтого дьявола», некое интернациональное образование, живущее по своим отдельным законам. Но кто пишет нам эти законы?
Помнится, будучи солдатом, шагая в походном строю, я пел вместе с другими превосходную песню о Москве:
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.
Пролезли и в эту песню слова, кои уже тогда вставали поперек горла. Но куда было деться? Говорят, из песни слова не выкинешь. Приходилось петь о «любимом Сталине», хотя мой отец еще до войны певал такую песенку:
У товарища у Сталина
Глаза наискосок,
До чего довел Россию,
Нету соли на кусок.
Москва, однако, была столицей, и я пел про нее в солдатском строю.
…Спустя сорок лет, после добровольной ротации в лукьяновском Верховном Совете, после горбачевского предательства из-под моего грешного пера явились такие вот строчки:
Заросла ты, Москва, бузиной.
И тебя поделили по-братски
Атлантический холод ночной
И безжалостный зной азиатский.
Не боялась железных пантер,
У драконов не клянчила милость,
Отзовись, почему же теперь
Золотому тельцу поклонилась?
Все заставы сгорели дотла,
Караульщики пьяные глухи,
И святые твои купола
Облепили зловещие духи.
Притомясь в поднебесной игре,
Опускаются с ревом и писком
В тишину на Поклонной горе,
В суету на холме Боровицком.
Днем и ночью по жилам антенн
Ядовитая влага струится…
Угодила в Египетский плен
Золотая моя столица!
Одним дуракам не ясно: кто у власти в Москве, у того и власть над Россией. Истину эту давно знают даже самые придурковатые русофобы. Чего уж тут говорить о Бжезинском и Киссинджере! Этим-то ума не занимать — стать. Не то что их московским шестеркам вроде Юрия Карякина. Недавно в своей очередной истерике Карякин призывал Распутина и Белова публично высказать свое мнение о «русском фашизме». Да если б и существовал в природе этот самый «русский фашизм», кто бы дал Распутину прямой эфир? Это Карякину с Черниченком в любую студию в любое время ворота настежь. Нашему брату и в прямом эфире и в косвенном либо вообще отказано, либо отпускается он строго по медицинской норме.
Вспоминаю, как во время поездки в США вашингтонский демократ Михаил Михайлов предложил выступить по радиостанции «Свобода». Я не стал отказываться, явился в студию. Михайлов дал микрофон. Стоило заговорить откровенно о серьезных вещах, и у оператора за стеклянной стенкой сразу кончилось рабочее время. Все! Будь доволен и отправляйся под дождь на площадь Сахарова. Свобода на «Свободе» не ночевывала…
Однажды телевизия (целый автобус) по бездорожью нагрянула прямо в деревню. (Ехали около шестисот километров, сколько одного бензину сожгли.) Я согласился сдуру дать интервью. Без ужимок ответил на все вопросы. Через какое-то время посмотрел передачу.
Зло взяло. Все серьезное было начисто вырезано.
И этот урок не пошел мне впрок.
Летом 1993 года я согласился выступить по Московскому телевидению. Передача была намечена на воскресенье 26 сентября. Надел галстук, чинно приехал в Останкино. В вестибюле мне вежливо показали увесистую фигу. Из-за меня, как выяснилось, безобидную передачу «Русский дом» вообще отменили… Такова, уважаемый Юрий Карякин, ваша свобода, ваша демократия! Вы скажете, что надо было настойчиво добиваться справедливости, идти к начальству. Ну я и пошел. И дошел. До самого верха. Кабинет. На столе пачка «Мальборо» и прочая атрибутика. Я представил себя. Стараюсь говорить как можно спокойнее:
— Хотелось бы выяснить, кто запретил мне выступить перед москвичами?
— Я.
В его голосе не вежливость даже, а задушевная нежность.
— Почему? — Я поражен этой циничной вежливостью.
— И вы, и Доронина могли сказать там не то, что надо.
— А что надо?
— Ну, знаете… Вы же все понимаете.
— Нет, не все. Мне интересна психология отказа. Ваша психология. Сейчас я занимаюсь этим специально…
— Нельзя судить о психологии по внешним признакам.
— В этом я согласен с вами. Все же, почему вы не дали мне эфир?
— Потому что вы могли сказать неподходящие вещи…
— Но вы же все время говорите, что на радио и у вас на ТВ свобода.
— Я этого не говорил.
— Ну, не вы, так другие.
— Василий Иванович, я не отвечаю за других.
— Но вы согласны с ними или со мной?
— Свободы нет. В России никогда свободы не было и долго не будет…
— Оставьте в покое Россию!.. Вы запретили передачу. Кто вам приказал? Лужков?
— Нет, я сам. Он глядит мне в глаза. Закуривает и вдруг начинает объяснять что-то про свою национальность. «Я латыш. Католик». Мне становится стыдно. Какое мне дело, что он католик? Говорю:
— Вы запретили передачу на двадцать шестое. Но вы могли бы компенсировать мне позднее…
Говорю о компенсации эфирного времени, он же понял совсем в другом смысле. Улыбается:
— Мы сделаем вам компенсацию. Не моральную, а физическую.
— Вы решили меня купить. Во сколько же вы меня оценили?
Тут он теряет самоуверенность:
— Инициатива исходила не от меня!
…Я с помятым видом подался к метро ВДНХ.