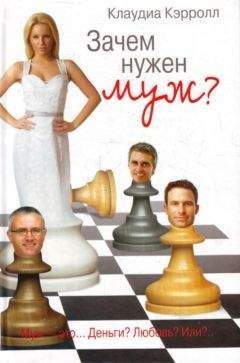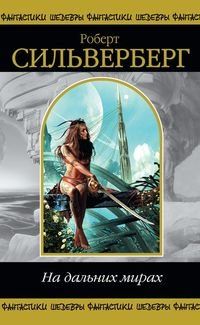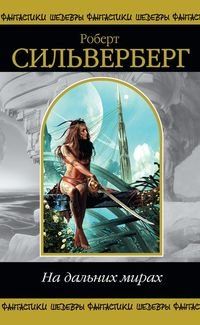Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
И опять — это не самостоятельный феномен, а воплощение того, чем чревато "время". Это заполнение исторического пробела, материализация небесных сфер, изливание облаков над местом, "где горбился его верстак".
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.
"Уклад вещей" концентрируется в человеке, который живет "как все". Разве что живет — "за древней каменной стеной".
Однажды из-за древней каменной стены раздался телефонный звонок, и вождь попросил поэта поручиться за другого поэта, уже, впрочем, обреченного. Пастернак растерялся. Мандельштама он не спас, но, собрав все свои душевные силы, предложил вождю поговорить о жизни и смерти.
Услышав такое предложение, Сталин молча повесил трубку.
Третьим был Хрущев.
Стихов про него Пастернак не писал. Но при этом вожде его опять "привлекли" — за публикацию в Италии романа "Доктор Живаго". В ходе разнузданной хамской кампании ему пригрозили высылкой за границу. Тогда Пастернак написал Хрущеву письмо с просьбой не лишать его родины.
Впрочем, он не писал — письмо составили его близкие, "стараясь выдержать тон Пастернака". Он подписал, внеся "одну лишь поправку в конце". Какую? Ольга Ивинская не уточняет.
Может быть, вот эту?
"Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы…"
Но, кажется, слово "советская" для него все-таки не характерно.
"Русская"?
Когда Дмитрий Поликарпов, от имени Хрущева объявлявший Пастернаку разрешение остаться на родине, решил пошутить и заметил, что "Доктор Живаго" — это нож в спину России, Пастернак мгновенно оборвал разговор и потребовал, чтобы тот взял свои слова обратно.
Словом "русская" он тоже без нужды не бросался. Но когда задели — не стерпел.
"Всемирная"?
Из последних стихов:
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Этим и закончим переклик советского, русского и всемирного в поэзии великого небожителя.
АННА АХМАТОВА:
"…В РОССИЮ ПРИШЛА НИОТКУДА"
В августе 1946 года, числа 16 или 17-го, Анна Андреевна Ахматова явилась в Союз писателей за лимитом. В коридоре от нее шарахнулся какой-то начальник — она отнесла это за счет обычного хамства. Секретарша, здороваясь, отвела заплаканные глаза — видно, у нее были какие-то неприятности. На обратном пути встретился Зощенко; он неожиданно перебежал Шпалерную, остановил, поцеловал обе руки, посмотрел в глаза: "Что теперь делать, Анна Андреевна? Терпеть?" Она подумала: у него очередные бытовые неурядицы, в тон ему ответила: "Терпеть, Мишенька, терпеть" — и спокойно последовала дальше.
Она НИЧЕГО не знала о том, что с нею произошло.
Современному читателю надо объяснить в этом эпизоде два обстоятельства. Одно простое: что значит придти за лимитом? Это значит получить особый талончик, "единичку" на промтовары, "лимит" на продукты в "распределитель"; в военные и первые послевоенные годы такое отоваривание было в порядке вещей; соответствующие термины объяснения не требовали.
Сложнее понять другое обстоятельство: как это Ахматова НЕ ЗНАЛА? Уже день или два, как принято и обнародовано смертельное для нее "историческое постановление ЦК партии" — акция, определившая идеологическую политику на десятилетия вперед; уже в школьные программы его готовятся внести, и Ахматову поминают как главное пугало; уже Жданов читает о ней доклады. О Постановлении знают все. Ахматова — не знает.
Это можно объяснить так: друзья не решились сказать, знакомые отвернулись в страхе, сама же она газет не читает и радио не включает. Она действительно МОГЛА не знать: и день, и два. Но все это оказалось возможно, потому что она и жила так, чтобы ничего не знать: в затворе. Она и рассказывала потом эту историю, гордясь тем, что — "не знала". Она — НЕ ХОТЕЛА ЗНАТЬ.
Точно так же она "не знала", что о ней было Постановление ЦК "году в двадцать пятом". Лидия Чуковская (на "Записки" которой я во многом опираюсь, воспроизводя ахматовский "имидж") — искала это Постановление и не преуспела; с чисто "чуковской" иронией она заметила: наверое, оно сильно засекречено. Но дело не в том, было или не было такое Постановление. Дело в том, что Ахматова и о нем "не знала". Она не знала даже: "что такое ЦК".
Свидетельство другой Лидии, Гинзбург: "Она держала себя, как экс-королева на буржуазном курорте".
Она жила, не видя, не слыша, не признавая "этой" реальности. Переходя улицу, в ужасе кричала спутникам: "Уже можно?!" — уверенная, что ее сшибут. Хромала на одном каблуке, потому что не ведала, где чинят обувь. Не умела подняться в лифте… то есть подняться умела, но не знала, "как нажимать кнопки". Не знала, как расставить в своих стихах знаки препинания, и поручала это другим.
Она многое поручала другим, и другие с радостью делали. Она была окружена поклонниками и поклонницами, в облаке почитания она величественно несла свою неустроенность. Она была — "царица", "королева", "Первая дама Империи", "Екатерина Великая"; величие ее облика не противоречило нищете, но лишь подчеркивалось ею. Халат мог быть порван от плеча до бедра: зашить нельзя, с царственной небрежностью носить — можно. Шуба — без пуговиц: пришить нельзя, носить, уверенно запахиваясь, — можно. Перевязанный веревкой чемодан с рукописями на табуретке посреди комнаты — символ кочевья: найти нужный листочек нельзя… но — можно быть уверенной, что любую строчку окружающие, знающие ее стихи наизусть, — подскажут мгновенно.
Впрочем, то, что действительно нужно, Анна Андреевна делала с молниеносной и точной хваткой. И от скорбной изваянности могла неожиданно перейти к обыкновенной веселости — словно невидимым выключателем щелкала. И даже сознавалась с обезоруживающей прямотой: "Я все умею, а не делаю из одного злорадства".
Это был имидж, образ — миф, ставший ее реальностью. "Я не умею шить". "Я не умею готовить." "Мне неважно, напечатают ли мои стихи". Беспомощность и надменность разом. Гордыня наперекор хамству. Программная "нежизнь". О, как остро, как ревниво почувствовала это Марина Цветаева, когда в 1941 году Лидия Чуковская в Чистополе, переводя ее через лужу, неосторожно заметила: хорошо, что Анна Андреевна не здесь: она ведь ничего не может… Марина Ивановна взвилась: "А думаете, я — могу?!"
Они обе — не могли и не хотели жить в "этой реальности". Цветаева пыталась бороться. Ахматова с царственным безразличием и как бы машинально принимала "рабский зрак". Рубище и бездомье.
Оба дома ее детства были уничтожены: и тот, что в Царском Селе, и тот, что в Севастополе — она говорила об этом, как о факте провиденциальном. “Горят мои дома”. Кочевье стало ее пожизненным крестом, уже и добровольным. “Королева-бродяга”. Под ее ногами не было земли — пустыня, бездна, пропасть. "Мне подменили жизнь…"
Жизнь — островок, гощение. Что-то было "до" и что-то будет "после". Жизнь до "начала" и "жизнь после конца".
"Себе самой я с самого начала то чьим-то сном казалась или бредом, иль отраженьем в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины"…
Что значит: с самого начала? Это значит, что в начале — подмена. Одна неподлинность подменяется другой. Самое рождение Ахматовой как поэта — словно скачек из невесомости в невесомость. Отец — нормальный инженер — еще до всяких стихов дразнит ее "декадентской поэтессой" (магия предвоплощения!). Прочитав стихи, говорит: "Не срами мое имя". Она отвечает: "Не надо мне твоего имени!". И из Ани Горенко делается — Анной Ахматовой.
"Ахматова" — фамилия бабки. Древняя, Чингизова корня. Важно это было? Абсолютно нет: "шальная девчонка" выбрала татарское имя для русской поэтессы, совершенно не вникая в то, что оно — татарское. Жила на Украине, была похожа на украинку, но совершенно Украиной не интересовалась, даже отталкивалась.
Нет Украины. Нет Татарии.
И России нет. Есть пустое пространство и загадочно молчащее время.
Еще есть — поэтический вакуум. В родительском доме — "один том Некрасова", и ничего более. Конечно, это тоже позднейшая стилизация; имелся в доме еще и Державин. И, между прочим, Бодлер в подлиннике. Кроме того, определив дочь в Царскосельскую гимназию, родители водили ее по всем полагающимся столичным музеям, театрам, вернисажам и концертам. Но избирательность памяти корректирует все это, подводя под знак опустошения: поколение отцов не чувствовало поэзии! Выкормыши Писарева, они удовлетворялись Розенгеймом.
Вакуум, пустота — вот что застает в поэзии "декадентская поэтесса". До Анненского и Пушкина надо еще дойти. Идти надо сквозь символистскую мглу. Она чувствует: Брюсов — это "девятнадцатый век". Акмеисты хотят быть — "в двадцатом". Серебристым туманам они противопоставляют гравировку подробностей.