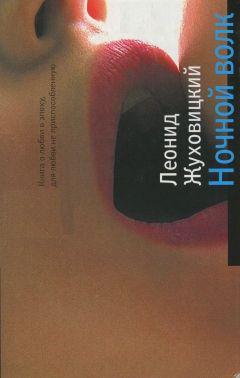Леонид Жуховицкий - Банан за чуткость
Я видел, сколько души вложила девочка в эти избитые слова, и жалко было ее искренних, но напрасных усилий.
— Вы с ней будете говорить, так? — напомнила молоденькая учительница.
Я сказал, что да, обязательно поговорю, и стал придумывать уклончивые фразы, которые позволили бы мне не солгать, а девочке — не огорчиться.
Она начала второе стихотворение. Название его — «Осень» — открытий не сулило.
Но девочка читала, соседка моя переводила, и во мне росла радость удивления — такую осень я, пожалуй, прежде не знал.
Печальная пора года была не увидена, а услышана.
Звуки, только звуки. Пробежка дождя по деревьям, растерянное позвякиванье птиц, мягкий стук упавшего яблока, хруст тяжелых шагов в аллее, неожиданно резкий голос — и шорох легких лап торопящейся собаки…
Лишь однажды в стихотворении появился цвет, ,но это был скорее символ цвета. Осеннее небо в стихах оказалось синим — ведь ни увидеть, ни услышать его девочка не могла.
Учительница спросила, как мне понравилось. Я ответил, что понравилось очень. Девушка обрадовалась:
— Вы знаете, она всегда так старается…
Потом подошла к сцене, позвала девочку, и та, нащупав ногой ступеньки, легко сошла вниз.
Сидевший сзади Сережа проговорил негромко:
— Все‑таки это ужасно, когда ребенок слепой.
Я повернулся к нему:
— Но ведь и у тебя мог такой родиться. Что бы ты стал делать?
Он ответил с досадой:
— Что?! Любить втрое больше — что же еще!
Моя соседка за руку подвела девочку, шепнула ей что‑то и, взяв за плечи, усадила между нами.
— Я сказала, что вам понравилось.
Я кивнул, пожал девочке худенький локоток и сказал:
— Молодец, умница.
Русского она не знала. Но все равно повернула ко мне счастливое, сияющее лицо.
Она понятия не имела, каков я на самом деле, как пишу, умен или глуп, не имела понятия и не думала об этом. Для нее я был писатель из огромной, великой страны, писатель с авторитетом не только бесспорным, но как бы даже и международным.
И такому человеку понравились ее стихи!
Да, было от чего светиться…
Зал зааплодировал и завопил — объявили, что выступят наши.
Работать с детьми и вообще‑то трудно. А с этими было трудно вдвойне: слов они не понимали, лиц не видели. Ни обаятельная улыбка, ни актерская свобода на сцене не прикрыли бы пустоту в голосе.
Наши здорово нервничали. Может, поэтому концерт получился лучшим за всю поездку. Ребятишки уловили вполне, возник контакт — а там пошло! Весте подпевали хором, Сережу вызывали раз шесть.
Девочка сидела рядом со мной. Как с ней говорить, я не знал, только улыбался да держал в своей руке ее ладошку, чувствуя, как худенькие ее пальцы благодарно и радостно прижимаются к моим. Изредка я бормотал под нос что‑то невразумительное — и каждый раз девочка поворачивала ко мне сияющее лицо.
А я думал — что с ней будет, когда вырастет? Кем станет эта добрая, способная и, наверное, неглупая девчушка?
Выучится и сама пойдет преподавать слепым детям? Или поступит в артель?
И вообще, как у нее сложится?
Незрячие обычно выходят замуж за незрячих — общность интересов, от которой никуда не денешься. Дай ей бог хорошего человека! Жаль только, он никогда не порадуется ее лицу…
Выступление наших подходило к концу. Я спросил мою спутницу, что дальше. Она сказала — танцы.
Я поразился:
— Они могут танцевать?
Она ответила с гордостью:
— Конечно! Они могут очень хорошо танцевать.
Сдвинули скамейки к стенам — мы тоже переместились к стене, — и действительно начались танцы.
Это были прекрасные танцы. Не фокстроты, не твисты, не шейки — никаких затверженных, заученных фигур. Никто не оглядывался на других, не подлаживался к соседу, не путал движений, стесняясь своей неумелости, — все всё умели. Ребята плясали как душа желала, прыгали, кружились, взявшись за руки, по двое, по трое, по четверо. Что упускали в движении, с лихвой добирали в крике — никогда, ни прежде, ни после, не слышал я в танцевальном зале таких откровенно восторженных воплей. До чего же хороша была жизнь!
Странно, но никто никого не сшибал.
Я долго смотрел с тревогой, как двое крохотных мальчишек отчаянно вертелись, сцепившись пальцами и упершись ботинками в ботинки. Ведь рядом так же самозабвенно крутились тем же способом две рослые старшеклассницы. Ну как столкнутся?
Но нет — никто не пострадал, все остались целы…
Веста удивилась:
— Они как будто не чувствуют, что не видят. Совсем как другие ребята.
Сережа дернул плечом:
— А почему они должны это чувствовать? Мы ведь не летаем — и не чувствуем этого. Не летаем, а живем.
Мой друг проговорил почему‑то со вздохом:
-— Один умный человек сказал: забудьте, что потеряно, помните о том, что у вас осталось…
Девочка все сидела рядом со мной. Разговор наш понять она не могла, но вслушивалась внимательно, на каждый новый голос мгновенно отзывалась поворотом головы и смотрела прямо на говорящего не глазами, а всем лицом.
Сережа положил ладонь ей на плечо.
Она быстро ощупала его руку и улыбнулась вежливо, как при знакомстве.
Сережа пробормотал задумчиво:
— А вообще в этом что‑то есть. Ведь они не могут судить человека по внешности…
Он помялся, потом уловил собственную мысль и уже уверенно стал ее развивать:
— Ни по внешности, ни по тряпкам, ни по вещам в квартире. Только главное — добрый или злой, толковый или дурак…
— Сами обстоятельства толкают к духовности, — вставил мой друг и виновато усмехнулся. Он был неглуп, очень неглуп, но как бы стеснялся этого и, охотно демонстрируя волю, застенчиво прятал ум…
А я вдруг понял, чем походили друг на друга здешние учительницы. Все просто — непритязательностью одежды.
В обычную школу женщины готовятся, как на званый обед: ведь даже первоклашки придирчиво следят за внешностью учительницы. А эти, интернатские, одевались как ткачихи на фабрику — удобно и немарко…
Подошла энергичная заведующая, и нас повели смотреть учебные кабинеты.
Мы вышли из зала довольно большой компанией: учителя, все наши и девочка, не отходившая от меня.
Мы с ней уже попривыкли друг к другу и даже почти разговаривали. Я похлопывал ее по худенькому плечику и спрашивал:
— Ну что, брат, порядок?
А она в ответ улыбалась и проговаривала что‑то свое.
С умным человеком много слов не надо!
Опять мы шли по длинному, без окон коридору, шли, подчиняясь его прямоугольным поворотам. Вокруг мельтешила малышня, торопились куда‑то ребята постарше. Они прекрасно ориентировались в знакомом помещении и двигались уверенно, лишь изредка касаясь пальцами стены.
Только некоторые, может быть, новички, пробирались вдоль стен, и лица их были подняты и напряжены, как у слепцов на людном перекрестке.
Я вел девочку за руку.
Я не мог ей сделать ничего хорошего. Лишь в эти несколько минут, пока шли по длинному коридору, она зависела от меня, и я был рад, что могу дать ей хоть что‑нибудь — хоть помочь уклониться от проносящихся мимо и навстречу ребят.
Было и хорошо, и совестно моей зрячей силы перед лицом ее беспомощности.
И тут вдруг погас свет.
Мы мгновенно очутились в полной черноте — даже не мы, а я, потому что остальные сразу исчезли, растворились и голоса не подавали — видно, так же оцепенели в неожиданной тьме, как и я.
А коридор жил своей жизнью, слышался топот, крики — слепые дети, не ощутившие перемены, все так же мчались по своим делам, в зал или из зала.
Я невольно зажмурился и сжался: казалось, вот сейчас эта проклятая темень с размаху саданет в живот головой, локтем или сунет в глаза растопыренную пятерню…
Где‑то рядом была стена. Я стал пробираться к этому более безопасному месту, нерешительно переставляя ступни.
Моя свободная рука шарила в воздухе, поднятое лицо напряглось, как у слепца на перекрестке… Я мучительно вслушивался в окружающее движение. Но чем мог помочь мой слух — неразвитый слух зрячего!
И тут я почувствовал, что меня тащат. Меня уверенно тянули за руку, и не к стене, а вперед, куда мы и шли сначала. То и дело меня дергали в сторону, я безропотно повиновался и, наверное, избегал какой-нибудь беды, подстерегавшей в опасном невидимом мире.
Другого мне и не оставалось — только верить в руку, тащившую меня, верить в девочку, так внезапно ставшую моим поводырем…
Вспыхнул свет.
Я остановился и осмотрелся, ища товарищей. Они стояли в разных местах коридора, и почти каждого держал за руку кто‑то из слепых ребят. То ли чуткие эти ребята кожей чувствовали разницу между светом и тьмой, то ли просто уловили страх и растерянность зрячих…
И опять мы шли по коридору, нежная ладонь девочки лежала в моей. Только теперь я не знал, кто кого ведет и опекает. И не знал, кто кому будет необходим за прямоугольным поворотом коридора…