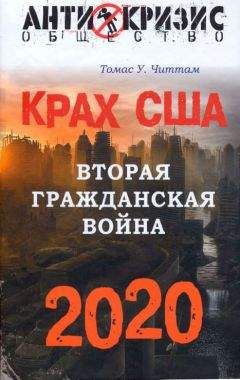Мария Голованивская - Признание в любви: русская традиция
Однако не будем забывать об особенности любви как таковой, сильно отличающей ее от горсти маслин или мужских панталон. Любовь – сакральная вещь, относится к сфере жизни и смерти, табу и ритуала, и именно поэтому она, как и все сакральное, особенно обрастает поведенческим и словесным регламентом, исходным кодексом, за следованием или неследованием которому следит все общество.
Литература, моделирующая и обобщающая нашу практику и возводящая ее в степень культурной Практики с большой буквы, конечно же, определяет наше «как». Я уже говорила, что мы знаем, как объясняться в любви, еще не полюбив, но школьный курс предлагает нам немногое из того, что содержится в арсенале взрослого русскоговорящего человека. Остальное он узнает самостоятельно из не-программного чтения, впитывая в себя и «Тропик рака» Генри Миллера, и фривольности «Эмманюэль», в общем – весь мировой контекст. В нас, современных, исконно-посконного и чужеродного намешано если не в равных долях, то в соизмеримом количестве.
Но главное здесь, на мой взгляд, вот что: мы впитали только то, что так или иначе соответствовало нашему поколенческому опыту, мы впитали то, для чего у нас была почва. Ведь любовь и признание в любви – для нас такая же архаика, как пюре с котлетой и соленым огурцом, и если кто из нас и любит суши-сашими, то отнюдь не так, чтобы есть их каждый день или кормить ими сызмальства своих детей. В школах девочки носят косички, а не ирокез. В любовном признании мы готовы копировать любые самые смелые ходы и повороты (когда-то такими смелейшими примерами были диалоги из «Мужчины и женщины» Клода Лелюша и из «Последнего танго в Париже» Бертолуччи), но, собираясь объясниться всерьез, мы все же для верности прислонимся к «родному дереву», ставшему после Толстого поистине ветвистым и дающему множество «своих», даже самых дерзких вариантов. Посмотрим, каких.
Это начинается у Толстого – серьезное обсуждение самого понятия. У Толстого, который описал в своих романах всевозможные пары и обогатил интересующий нас предмет не только современным пониманием любви, но и утверждением того факта, что любят друг друга не бестелесные возвышенные натуры, а мужчины и женщины, состоящие из плоти и крови. До него само слово «плоть» многократно использовалось, но особенно не расшифровывалось. Любовь называлась, упоминалась еще со времен русских народных сказок, но в каком смысле? Вот мы читаем в «Царь-Девице»: «Ах! – сказала старушка. – Уж она тебя не любит больше; если ты попадешься ей на глаза – царь-девица разорвет тебя: любовь ее далеко запрятана!» – «Как же достать ее?» Что значит в приведенной цитате «любовь»? Как она связана с глаголами «запрятана» и «достать»? Или вот в «Герое нашего времени»: «Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла». Или в «Обломове»: «Нет, я чувствую… не музыку… а… любовь! – тихо сказал Обломов». Но что именно он чувствует и как это его чувство соотносится с его представлениями о жизни, ценностной шкалой?
Первый подход к определению самого понятия мы находим у Тургенева в «Отцах и детях» во фразе Базарова: «Любовь – форма, а моя собственная форма уже разлагается», и в «Дворянском гнезде» в реплике Лаврецкого: «Я желаю знать, любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью?» Но более концептуальные трактовки мы находим уже в литературе XX века.
Давайте посмотрим, как герои говорят о любви. Только не будем забывать, что вся архитектура этого понятия прочнейшим образом зиждется на заданных в первой половине XIX века основах: и дальше, и по сей день герои говорят о страдании, о своей гибели без любимого человека, о готовности отдать за него жизнь, бесконечно обсуждают и цитируют книги, тянутся к демоническому, гениальному, геройскому.
Вот несколько ярких примеров:
Чехов «Три сестры»:
«Как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет… Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо, и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает и каждый должен решать сам за себя…»
Бунин «Темные аллеи»:
«Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня – помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», – прибавила она с недоброй улыбкой».
Герман «Дорогой мой человек»:
«Пожалуйста, не обижайся на меня, Вовик, но когда я думаю, что ты взял да и женился, то желаю тебе смерти. Это Пушкин мог написать: «Будь же счастлива, Мэри!» А я не Пушкин. Я Варвара Степанова со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и Пушкин, наверное, тоже поднаврал, настроил себя на такой сахариный лад, слышали, начитаны про его семейную жизнь».
Рыбаков «Дети Арбата»:
«Он не мог выговорить ни слова, смотрел на ее плотно сжатые ноги, на маленькую белую грудь… Солнце пекло сухо, жужжала оса, пахло яблоками, Саша не мог встать, не мог пошевельнуться, со стыдом чувствовал, что она все видит, все понимает, улыбается своей двусмысленной улыбкой и в душе посмеивается над ним.
– Все читаете, читаете, совсем зачитаетесь.
Она взяла из его рук томик Франса.
– Не отдам!
И спрятала книгу за спину. Он потянулся за книгой, их руки сплелись, его обдало жаром ее тела, она бросила вороватый взгляд на калитку, откинула голову, тяжело задышала, на лице ее появилось что-то отрешенное, тайное».
Панова «Спутники»:
«В ответ он засвистел. Свистел он очень красиво, совсем не так, как свистят мальчишки на улице. «Это из четвертой симфонии Чайковского», – объяснил он, кончив свистеть. Потом спросил Лену, любит ли она стихи, и прочел ей стихи Асеева: «Нет, ты совсем не дорогая, милые такими не бывают». Стихи взволновали ее, она никогда не слышала ничего подобного, ее знакомство с поэзией ограничилось хрестоматией для седьмого класса. Стихов он знал уйму и мог читать их в любое время дня и ночи. Они стали засиживаться допоздна. Она чувствовала потребность видеть его и слушать его чтение… Но как-то раз у него в комнате, читая ей «Цыган» и прочитав последние строчки: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», он тем же своим прекрасным голосом сказал: «Я вас люблю» и накрыл ей рот мокрыми губами, пахнущими табаком».
Бондарев «Берег»:
«… Какая прекрасная бывала тишина в кабинете отца и как прекрасно было лежать на старом уютном диване в какой-нибудь зимний день с метелью и сугробами во дворе и читать, читать или листать книги. Я был влюблен в девушек Тургенева, как это ни странно, и я был влюблен в Наташу Ростову».
Астафьев «Пастух и пастушка»:
«Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко носить ее, но так полагается в благородных романах – носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз такой он начитанный!»
Катаев «Волны»:
«Он не успел опомниться, как она уже полностью завладела им. Он только жалобно смотрел на нее, как бы желая сказать: «Что вы со мной делаете?»
И с этого мига для Пети началось то мучительное и вместе с тем блаженное состояние, которое называется любовью с первого взгляда.
Как это случилось, откуда она взялась? Не знаю. Причины любви неизвестны. О них можно только гадать. Признаки же разные.
<…>
Еще прежде, чем он понял, что влюблен, он уже, испытывал мучительный приступ ревности.
У нее есть жених. Свет померк в глазах Пети. Брезжила надежда: может быть, о женихе сказано в шутку?
– Это правда, что у вас есть жених? – спросил: Петя.
– К сожалению, правда.
– Почему же к сожалению?
– Потому что я его не люблю.
– Но тогда… Почему же тогда он ваш… жених?
– Теперь об этом поздно рассуждать.
– Почему?
– Слова не вернешь.
– Слова! – воскликнул Петя.
Ему показалось чудовищным, что из-за какого-то «слова», пустого звука, может быть зависимо его счастье, его жизнь. О ее счастье и о ее жизни он даже не подумал.
– Боже мой! Слово… – повторил он.
Или еще такой пример из того же произведения, где, кажется, за автора говорят Гончаров и Тургенев, Толстой и Бунин:
«Но Ирен была рядом. Он касался ее плеча. Свечи отражались в рояле. Время исчезло. Ничего в мире не существовало для Пети, кроме страстного меццо-сопрано красавицы Инны, которое, заглушая звуки аккомпанемента, заставляло дрожать черные оконные стекла:
Сияла ночь! Луной был полон сад.
Сидели мы с тобой в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Их сердца дрожали.
Потом Ирен и Петя снова сидели в ее комнате, но только теперь поменялись местами. Она сидела на скамеечке, а он на стуле. И она положила голову ему на колени, туго обтянутые бриджами.
– Я вас люблю, – сказала она шепотом и посмотрела на Петю так, что у него потемнело в глазах.
Он понял, что теперь она уже больше не шутит.