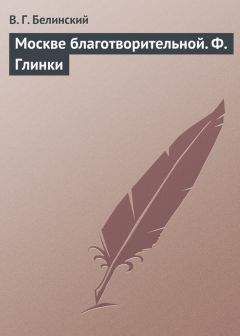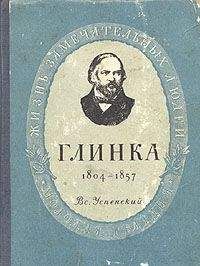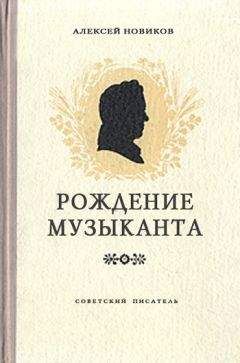Владимир Стасов - Михаил Иванович Глинка
Хотя вряд ли кто споет какой-нибудь из романсов Глинки так хорошо, как он сам певал их, для них, однако, всегда были и всегда найдутся отличные исполнители. Но никто не решается дотронуться до его лучшего, его трагического романса. Точно будто Глинка для себя одного создал и записал эти необыкновенные звуки, от которых глаза всех наполнялись слезами при его пении, а сердце болезненно сжималось, будто он с собою схоронил тайну исполнения этой гениальной песни и будто оправдал последние слова этого «Прощания с друзьями»:
Вам песнь последнюю мою —
И струны лиры разрываю!
До этих струн более никто уже не дотрагивался.
Кончив последнюю ноту, он хотел навсегда замолчать (бросив даже «Руслана и Людмилу») и уехать надолго, сначала на юг России, а потом, быть может, навсегда в чужие края.
Но, по счастью, мрачное расположение духа у Глинки вскоре рассеялось, если не совсем, то по крайней мере в значительной степени. Большая часть поэтов (Байрон во главе их) имели минуты тяжкого уныния и разочарования, в которое они прощались навсегда с своим искусством; но по большей части эти минуты уныния всегда предшествовали периодам высшего развития сил и создания совершеннейших произведений. Так точно было и с Глинкой. «Приехав к матушке (в Смоленск), — говорит он, — я начал обдумывать свои намерения; паспорта и денег у меня не было. Притом же за несколько дней до отъезда из Петербурга я был жестоко огорчен незаслуженными, продолжительными упреками. От совокупного действия размышлений и воспоминаний я начал мало-помалу успокаиваться. Я принялся за работу и в три недели написал интродукцию „Руслана“. При этом случае следует привести здесь одну подробность из 1839 года: „По долгу службы, — говорит Глинка, — я присутствовал на обручении и бракосочетании великой княжны Марии Николаевны. Во время обеда играла музыка, пел тенор Поджи, муж Фредзолини, и придворные певчие; я был на хорах, и стук ножей, вилок, тарелок поразил меня и подал мысль подражать ему в интродукции „Руслана“ во время княжеского стола, что мною впоследствии по возможности выполнено“.
„На обратном пути в Петербург ночью с 14 на 15 сентября меня прохватило морозом. Всю ночь я был в лихорадочном состоянии, воображение зашевелилось, и я в ту ночь изобрел и сообразил финал оперы“ (послуживший впоследствии основанием увертюры оперы „Руслан и Людмила“).
Итак, два из гениальнейших нумеров оперы, первая интродукция и последний финал, были сочинены почти в одно и то же время. Отсюда происходит то единство, то характеристическое родство этих двух нумеров, которые образуют собою историческую рамку, заключающую в страницах своих те фантастические, сказочные сцены и картины, которые наполнили собою всю средину оперы. Интродукция „Руслана“ есть самое грандиозное, самое колоссальное создание Глинки (вместе с заключительным хором из „Сусанина“); финал же по ширине форм, по могучему размаху своему следует за этими двумя нумерами. Такими-то двумя великими созданиями воротился Глинка к своей опере, давно покинутой, и после того глубокого уныния, которое высказалось в „Прощальной песне“.
По приезде в Петербург Глинка вошел в колею той самой жизни, которую повел он с конца 1839 года, т. е. с того времени, когда разные домашние обстоятельства принудили его оставить службу и изменить образ жизни: он отдалился для собственного спокойствия от прежнего обширного круга знакомства и ограничился небольшим обществом искренно преданных ему людей; продолжал часто видеться с „доброю и талантливою братией“, но более прежнего стал сидеть дома и работать. Уже в письме от 29 сентября он пишет к матери: „Я совершенно переменил образ жизни; сделавшись домоседом, избегаю всех случаев к беспорядочной жизни. Что бы ни случилось (он говорит про процесс, который должен был вести тогда), я решился, не вдаваясь в будущее, пользоваться настоящим временем и продолжать оперу“. „Несмотря на мои недуги, — пишет он в письме от 8 октября, — я веду жизнь тихую и покойную, а что всего лучше, беззаботную. Хотя в сердце несколько пусто, а зато музыка меня несказанно утешает; почти все утро работаю, вечером беседа добрых друзей меня услаждает. Если пойдет так и на будущее время, опера к весне будет почти кончена“. К числу тех домов, где Глинка в это время был принят как родной и где он в тесном кругу избранных, любимых людей отводил душу от физических и моральных страданий тогдашнего периода своего, принадлежал дом П[ав.] В[ас] Э[нгельгардта]. „Жена его, — говорит Глинка, — молодая и приятной наружности дама часто приглашала меня. После болезни посылали за мною карету, обитую внутри мехом, а сверх того собольи шубки, чтоб еще более меня окутать. Софья Григорьевна любила музыку; я написал для нее романс „Как сладко с тобою мне быть“, слова П. П. Рындина, часто игрывал ей отрывки из новой моей оперы, в особенности сцену Людмилы в замке Черномора. Мне там было очень хорошо; за обедом хозяйка сажала меня возле себя с дамами, угощали меня сами барыни, и шуткам и россказням конца не было“. Таким образом, зимою 1840 года он в этом доме нашел для себя ту отраду и то тихое удовольствие, которое зимою с 1838 на 1839 год он находил в знакомстве с племянницами покойного друга своего Е. П. Ш[терич]. „Меньшая из них, Поликсена, училась у меня петь, а старшая, княгиня М. А. Щ[ербатова], молодая вдова, была прелестна: хотя не красавица, но была видная, статная и чрезвычайно увлекательная женщина. Они жили с бабкой своей, и я был у них как домашний, нередко обедал и проводил часть вечера. Иногда получал от молодой княгини-вдовы маленькие записочки, где меня приглашали обедать, с обещанием мне порции луны и шубки. Это значило, что в гостиной княгини зажигали круглую люстру из матового стекла, и она уступала мне свой мягкий соболий полушубок, в котором мне было тепло и привольно. Она располагалась на софе, я на креслах возле нее; иногда беседа, иногда безотчетное мечтание доставляли мне приятные минуты: мысль об умершем моем друге достаточна была, чтоб удержать сердце мое в пределах поэтической дружбы“. Но в 1838 и в 1839 году он был окружен целою толпою почитателей его таланта, и дружба с племянницами покойного приятеля была только дополнением к прочим удовольствиям. Не так было зимою с 1840 на 1841 год: вследствие обстоятельств, а также и собственной решимости Глинка ряды поклонников и знакомых его уменьшились; одни к нему охладели, другие его забыли, третьи ему надоели сплетнями и клеветами (о чем немало есть подробностей в записках и письмах Глинки), и потому так же искреннее, родственное расположение и сочувствие, какое он находил в доме у Э[нгельгардта], не могло не быть ему тогда приятно и не действовать благотворно на художественные его занятия.
Как много в это время Глинка нуждался в искренней, близкой беседе, чтобы залечить ею свои раны, и как мало он находил к тому возможности в тогдашней своей жизни, в тогдашнем своем окружении, видно из того, что в 1840 и 1841 годах переписка с матерью значительно усиливается; Глинка, прежде того мало расположенный к переписке, начинает писать все чаще и рассказывает в своих письмах про свою тоску, про свою хандру, про свои огорчения. Даже говорит, что „мысль о смерти часто посещает его“. Всегдашняя нежность и привязанность к матери ярко выразились во время болезни его в 1840 году. „Когда я убедился в опасности моей, — пишет он, — меня тревожила не мысль о смерти, ни что другое, кроме вас, я боялся умереть, чтоб это вас не огорчило. Я так скоро умереть не желал бы; напротив, борюсь с судьбою и страданиями и, вполне ценя ваше ангельское сердце, употреблю все возможное, чтобы сохранить себя“. Единственно возможным средством для выхода из этого состояния ему казалась поездка за границу, о которой он начал помышлять с конца 1840 года и о которой он говорил своей матери почти в каждом письме, стараясь убедить ее в необходимости этой разлуки, столько тягостной для них обоих. Сначала он хотел ехать на три или четыре месяца, потом на год или на два, ему казалось, что, кроме причин моральных, того требовало и его здоровье, наконец, и возможность заниматься своим искусством. Вот несколько извлечений из писем этого времени. 8 октября: „Мое здоровье непременно требует, чтоб я прожил за границею по крайней мере год или два, ибо все мои припадки происходят от того, что я не могу переносить холодной погоды… Опера к весне будет (вероятно) почти кончена; впрочем, во всяком случае я весною непременно должен ехать — здоровье дороже всего“. 29 октября: „Будет ли опера подвигаться или нет, но во всяком случае я в апреле непременно должен ехать за границу. Мысль снова ожить в лучшем климате составляет единственную мою отраду, и я без ропота сношу страдания и лишения в надежде на лучшее будущее“. 4 января 1841: „Сердце мое желает остаться, а рассудок решительно понуждает ехать. Если б я мог жить с вами, я бы не колебался ни минуты и готов все оставить и всем пожертвовать, только бы быть вам в утешение. Но упорная судьба не исполняет ни одного из желаний моего сердца. Рассматривая теперешнее мое положение, нахожу, что мне в Петербурге делать нечего и что поездка за границу будет полезна как для здоровья, так и для душевного расположения. Опера моя подвигается медленно, беспрерывные заказные работы похитили у меня лучшее время, и я не вижу возможности отделываться от них. Здоровье мое в последнее время снова начало пошаливать, и хотя я все еще переношу холодный воздух довольно хорошо, но спазмы и хандра меня жестоко мучат; соображая все это, вы сами убедитесь в необходимости для меня провести несколько времени за границей, чтоб изгладить все тягостные для сердца воспоминания и оживить себя климатом, более благотворным“. В письме 15 февраля он повторяет почти те же слова и прибавляет: „Наконец, искусство, эта данная мне небом отрада, гибнет здесь от убийственного ко всему прекрасному равнодушия. Если б я не провел нескольких лет за границей, я не напирал бы „Жизни за царя“; теперь вполне убежден, что „Руслан“ может быть окончен только в Германии или Франции“. Как кажется, одною из причин, побуждавших Глинку так сильно желать заграничного путешествия, было желание сопровождать больных своих знакомых, тех самых, которых он сопровождал из Петербурга в августе 1840 года после „Прощания с Петербургом“. На это мы находим указание в письме от 25 февраля 1841 года: „Путешествие не увлекает мое воображение, как то было прежде: любопытство видеть новые предметы так слабо, что я считаю поездку за границу более необходимостью, нежели удовольствием, и если что для меня заманчиво, так это мысль иметь милых сердцу товарищей, потому что для меня собственно ехать бы следовало осенью, а не весною. Летом мне везде более или менее хорошо, зима же в России, своею продолжительностью утомляя меня и ввергая в частые недуги, лишает меня сил работать и пользоваться жизнью. Не скрою от вас также, что сердце мое почти забыло нанесенные ему оскорбления, но живо сохранило память отрадных минут и не может забыть тех, кои его услаждали в самые скорбные минуты. Скажу вам более: невозможно моему нежному сердцу существовать в одиночестве, и хотя оно предано вам беспредельно, но все еще остался в нем уголок и для другого отрадного чувства, и весьма не желал бы я, чтоб этим сердцем овладела какая-нибудь иностранка. После всех постигших меня неожиданных ударов судьбы я не смею строить планов в будущем, ничего не замышляю, ни за что не решусь огорчить вас долговременною разлукой, да по теперешним обстоятельствам этого и не требуется… На зиму мне следовало бы ехать за границу, но не в Париж, а куда-нибудь поближе: до окончания оперы в Париже мне нечего делать. Но в этом предположении ваше намерение приехать сюда с сестрой на зиму представляет мне грустное препятствие. Я не утерплю, чтобы самому не быть с вами, хотя и убежден, что петербургский климат и образ жизни вредны сколько для здоровья, столько и для труда моего“. 21 марта он писал: „Я уверен, что путешествие подкрепит меня и изгладит грустные воспоминания, кои еще доселе по временам тревожат бедное сердце мое. И если я буду на несколько времени разлучен с вами, зато надеюсь явиться к вам лучшим и, может быть, если богу угодно будет, порадовать вас собою. Не дождусь блаженного времени, когда буду с вами, а не скрою, что деревни боюсь“. 28 марта: „Судьба решена, я еду за границу; если бы не глубокие, вновь раскрывшиеся раны моего сердца, я бы поспешил к вам, чтобы ласками своими доказать вам беспредельную мою любовь и признательность. Но не требуйте, не желайте теперь моего к вам приезда. Я душевно болен, глубоко болен; в моих письмах к вам я скрывал свои страдания, но они продолжались. К счастью, теперь весна, и я телом не болен. Для меня не может быть счастья в России, вспомните судьбу мою и, верно, сами согласитесь с этим. За границей надеюсь найти спокойствие: там климат лучше, и люди не так связаны предрассудками, как здесь. Кто знает, может быть, судьба моя ведет меня к лучшему; как художник, по крайней мере могу надеяться, что там выиграю. Зная ваше ангельское сердце, я прибегаю к вам с двумя просьбами. Первая из них состоит в том, что как для здоровья, так и для окончания оперы четырехмесячного путешествия недостаточно. Должно остаться год, чтоб избегнуть зимы, укрепиться и иметь время окончить мой огромный труд, который только в половине: приехать к зиме, не оконча его, невыносимо для моего самолюбия. Второе, не переезжайте в Петербург до моего возвращения. С вашими молитвами и милостью всевышнего, может быть, через год я явлюсь таким, каким вы желаете, и как приятно будет мне по возвращении найти вас здесь и ставить оперу на сцену в вашем присутствии! К деревне же, говоря откровенно, душа моя не лежит… Запретить людям говорить нельзя — это ясно, но я терпеть не могу ни толков, ни сплетен, и благодарю судьбу, что могу улететь из России, где с моим характером и в моих обстоятельствах жить невозможно. Заграничный быт мне хорошо известен, там сосед не знает про соседа, и каждый живет по-своему…“