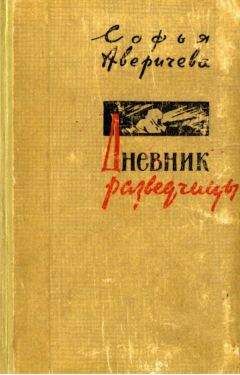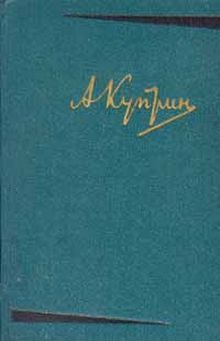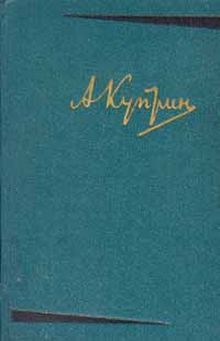Софья Федорченко - Народ на войне
Все теперь можно смотреть, только хитить[96] не приказано. Надо бы всякие вещи, очень хорошие, у богатых взять да, никому не отдавши, всему народу показывать.
Думать теперь нужно обо всем, что под рукой. На небо же не заглядываться. Там свои обдумыватели найдутся. Ни им до нас, ни нам до них — всякий на своей земле печальник.
Ты сам устрояй, не гляди, что не умен, книги не знаешь, трудам-нужде с прадедов обучен. Нашему брату такие-то теперь понадежнее будут
Коли так думать, сгнием в темноте. Ученых ты не гони. Пока их по-хозяйски поберечь надо, от них учиться-то.
Силой свет обойму, умом ничего не пойму Все — на чужой голове да своим горбом. Этак-то и человеком счесться нельзя.
Пошевелить мозгами можем, жернова-то у нас есть, а вот что на них перемалывать — не выучены.
Мы-то, словно целина черноземная,— всё уродим, только бы сеяли.
Попаду в гимназию,
Увижу разну Азию,
Попаду в ниверситет,
Оглянусь на целый свет.
VIII. О БОГЕ, ДУШЕ, СЕМЬЕ И ЖЕНЩИНАХ
Не думал я, что с царем-то так попросту. Все, бывало, и сказки-то громом грозилися. А вот и вышло. Может, эдак-то и господа бога попроверить можно.
Куда глянешь — всё грех. А теперь начальство на нас без палки, значит, и бог не того хотел, что сказывали. Это еще очень обдумать надо, да времени нету.
Я ли не терпел, не маливал, все на бога возлагал, после смерти за долготерпенье счастья ожидал. Однако в последние часы до того готов был, совсем от церкви отпал, хоть дьяволу душу впору отдать. Теперь я человек, а после смерти не моя забота, я жить выучился.
Ты бога оставь, пусть его себе на небе сидит, это теперь не первой важности занятие. Ты страну нашу присмотри. Только сопливость свою помни, а то ахнешь в министры, так только одной думкой и прогремишь,— ставьте, мол, трактир на весь на мир, всего-то и занятия твоего до сей поры было.
Сидел господь высоко, на людскую тьму глядеть не любил, живите, мол, как придется. Мы и обиделись: ты без нас, так и мы без тебя. И справились.
До чего у месяца лицо неспокойное. Губы скисли, глаза врозь, что про это знаешь. Многие из-за месяца словно не в себе, тревога от него. Видно, судьба у него не всякая.
Словно месяц жабу проглотил. Жучат его, верно. И там не без греха да наказаньица.
Всё в такое время прояснило. Не за грехи наказанья были, а за послушание. Вот теперь за грехи будем наказывать, так то мы, а не бог.
Ежевоскресно меня в церковь водили. Бывало, учадею там, весь осяду, дня три голова болит. Строжили меня насчет веры родители. Только раз ко кресту я сунулся — от батюшки винный дух. Морок, думаю. Потянул ноздрей — и пропала вся моя вера через нос.
А я веру потерял, женатый уж был. Жена к празднику убиралась, икону сронила, а икона пополам... Кинулся я подбирать, аж трушусь весь из-за страха. Поднял, глянул, а в щели той черви. И полезла из меня вера моя, аж тошно. Рвать стал. И с тех пор, кроме доски расписной, ничего я в образе не вижу.
Бабы верить здоровы, бесперечь от монахов рожают. Вот мужья-то и в обиде на веру бабью, а то бы все ничего.
Ходил, ходил по святым местам, всю веру растерял. И не диво, по пути мужичья беда беспомощная. Богу с той бедой не справиться, человечья порука нужна.
Душа да душа, а душа только по жизни дается, как жить станем. Помыкали нами не хуже как тварью бездушной, а вот теперь, думаю, забудем мы и души.
Пошлем хожалых знающих скиты попроверить. Есть скиты, что иноки, словно жеребцы стоялые, ржут да играют. Эти монастыри в кавалерию перегнать, а деньгу ихнюю на корм лошадиный.
Сказать, все переменится, и жизнь слегчим, и учиться станем, и иностранцы уважать станут. А вот как насчет церкви, за кого маливалась, на чьих деньгах строилась,— все иное. Хозяев переменить ей придется.
Думаю, бог ни при чем. Думаю, бог нашими делами и не займается. Думаю, богово дело одно — твари творить и всё творить А уж жить как, то не его забота, а каждого.
От богов отпадут, кто богов пересилил. Дал ты нам судьбу одну, а мы переделали. Так и проживем одни.
Да и те отойдут, кому хуже стало: за боговой спиной ручки свои выбелили, ан и недосмотрел господь. Очень на него сердце иметь будут, что не уберег.
Бог-то ничего, только доходчики-то наши больно плохи были. Только что грива густа, да ж... толста. А тот же боров. Последнее несчастье презирали, а богу басом ревут да от сытости в алтаре рыгают.
Строгой жизни, всегда постил, милостыню правил много и даром служил, почитали его. Да, видно, никакие они теперя не ко двору. Ну как ему в глаза взглянешь, коли все-то мы присяги сломали? А знаешь, что правильно.
Вот уж сколько-то дней без богов живем, и ничего, будто лучше. И дальше попробуем. А уж внуки-то и знать не будут, какую мы от богов острастку терпели.
Не хочу я без бога жить и не стану. Отменят — я себе своего заведу. Легче как будто, как знаешь, что не на двадцать лет стараешься, а на веки веков.
Заводи бога в кармане, никому не показывай. Мы так и так знать будем, что на веки веков, да не на богов работаем, а для всех людей.
Не выдумали ли еще господа-то, чтобы по закону им на первых местах сидеть,— вот что подумать надо.
Простой народ и теперь писать не мастер. А в старину-то и того меньше. Все эти писания важными людьми написаны. И еще очень неизвестно, по правде ли. А что не на нашу простецкую пользу, так уж это чего яснее.
Может, и Христос-то не плотник был. Насочинили такое, чтобы попослушнее были; свой, мол, брат говорил.
Все кричали «распни», один царь Пилат не захотел. Это тоже как понять: может, он своему мирволил.
И бог, и царь-то, бывало, на престолах в грозных молниях сидят. Вот и держались мы за гнезда насиженные. Ну ее, жизнь-то вольную. Того и гляди, коршун закогтит. А теперь коршунье по клеточкам. Чего теперь человеку в навозе тепла искать, для него теперь и солнышко работает.
Мы теперь, ребята, все как бы бог какой. Сами жизнь сотворили, да еще скорее божьего. Будто бы в три дня.
Теперь надо ожидать,
Что все переместится,
Мужики почнут рожать,
А парни невеститься
Затрещат теперь семейства. Не слепить детей с отцом-матерью, мужика с женою прежнею. Выйдут на новую жизнь одинокими.
Все теперь такое будет по-иному. Не мила стала — другую бери. И так до трех раз. А коли и в третий раз не мила, больше в брак не позволят. Значит, через гнилые глаза смотришь, коли все не в угоду.
Другое нужно, по-иному. Кто его знает, хорошо ли это еще — на самое укромное связи дожить. Может, оно посвободнее-то лучше будет, коли люди не кобели.
Жена нам теперь нужна иная. Чтобы старое не поминала, не клохтала бы над малостью клушкою. А где у нас такие?
Вся-то маета, бывало, на бабе. И житье наше дремучее, и побои-то, и дети-то, и обиды всякие — все на ней. Как бы нам такой бабе, геройской новые глаза присадить, лучше бы и не выдумать.
Как для всех товарищей
Наварила мама щей,
Я до мамы захочу,
Перемирье заключу
А я тебе сказку скажу: была семейная баба и до того семейство свое блюла, что из избы не вылазила. Пока семейство-то поднялось, кругом жизнь стала иная да новая, дома каменные повыросли. А как вошла семья в совершенные лета, изба-то бабина сгнила да семейству на голову и села. Так и Россия, наша матушка,— все дома кашу варила, а Европу и проглядела. Как бы не поздно.
Ах, эти бабы, в ногах путаются только. А теперь-то ее не то что ударить, а и словом зашибить нельзя. Теперь свобода для всякого народа — и жид, и жаба, и мужик, и баба.
Как бабушка Секлетея
Вокруг света облетела,
Всего видела немало,
А такого не видала
А такого не видала,
Что у нас во Питере,
Как у нас во Питере
Всяку слякоть вытерли
Стало нам невмоготу,
Сняли слякоть — мокроту,
Вытерли — повынесли,
Сами на свет вылезли
Теперь, думаю, перерядится женщина в одежду иную. Юбке-то и дела не видно, все больше штаны
работают. А любоваться-то и некому и некогда. Кудри состригут, ножки в сапожки, папироску в зубы,— гуляй через всю землю, не запутаешься.
Эх, как жалостно,
Где ж то видано,
На простой бабе женат,
Невоспитанной
Женщина у меня будет — цветок роза. Сама светла, платье на ней голубое, голос тихий, вокруг нее чистота, аж блестит, смех у ней голубиный.