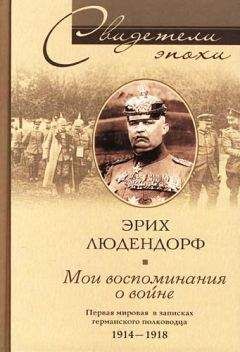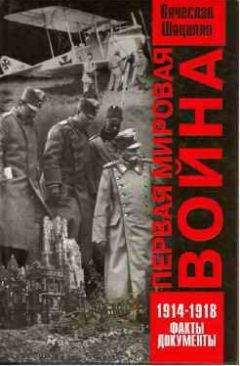Лев Троцкий - Европа в войне (1914 – 1918 г.г.)
В длинном коридоре тесно стояли параши. Когда человек входил в этот коридор, он видел непрерывный ряд лоханей, вокруг которых, прижавшись к стене, толпились и корчились больные. Некоторые падали на колени или лежали на полу в беспамятстве, покрытые отбросами, другие бродили, как лунатики или безумцы, скользя руками по стенам коридора. Иные пытались в горячечном припадке выброситься из окна, и санитарам приходилось их удерживать за платье.
Наступило рождество. Тодор, едва державшийся на ногах, хотел во что бы то ни стало навестить чичу Луку. На Божич Дан он отправился туда пешком, поужинал с ними, переночевал, на другой день почувствовал себя совсем слабым, едва-едва добрался до госпиталя и замертво свалился. Лежал он 15 дней почти сплошь в забытьи. Когда новый доктор Ивкович держал его за пульс, Тодор ловил его руки и молил: «Помогите мне, доктор, спасите меня, я серб, я пишу стихи, я хочу жить во что бы то ни стало»… Доктор успокаивал его несколькими словами и шел дальше. Ухаживал за Тодором санитар Люба Златич, добродушный молодой торговец из Ужицы. Он искренно привязался к больному, который давал ему читать свой дневник. Люба обкладывал Тодора снегом и льдом и утешал цитатами из его собственных записей и стихов.
9 января Тодор сразу почувствовал себя лучше и первым делом хотел взяться за свой дневник, но от слабости рука не могла еще водить карандашом. Поглядевшись в зеркало, которое принес ему, по его просьбе, Люба, он испугался того, что увидел там: кости да кожа.
О, како мие лице жуто,
А чело постало бледуняво круто.
Очи изгубиле пола свого сьяя.
Од тифуса боле и од уздисала…{6}
Так писал Тодор 10 января. Он проникся к себе большой нежностью и плакал в постели по дому и семье:
Кад бих био птица, да расширим крыла,
Па тек да се винем до мог дома мила.
Да погледам кучу и да видим жену,
Како горко дели горку судбу нену.
Кучо моя, кучо! Дома лепи, дома
Нигде нема лепше…{7}
И под этими строками он подписывал: «Тодор Бедный». Его почитатель Люба не мог уже познакомиться с этими стихами: 10-го он лежал в тифозной горячке, а через неделю умер.
Сербия была в это время уже совершенно очищена от австрийских войск. Между тем в госпиталь все время продолжали прибывать австрийцы, больные и раненые. Когда заболел доктор Ивкович, в больнице не осталось врача. Лечили только санитары. В конце февраля Тодор оправился совсем и снова занялся уходом за больными – в течение нескольких недель.
30 марта ему удалось выехать из Валиева в Ниш. Он поступил, как техник, на постройку железной дороги из Ниша в Княжевац. Ниш представлял собою военный муравейник. Жизнь била ключом, и почти все казались богаче, чем были на самом деле. Город кишел пленными. Приписанные к какой-либо казарме, они свободно гуляли по улицам города. Всюду слышались австро-венгерские языки и наречия. Только несколько сот пленных офицеров содержались в казарме под охраной.
5 апреля Тодор выехал на железнодорожные работы в село Нишевац. Сюда было пригнано для работы множество пленников всех национальностей. Начали с того, что выдали им чистое белье. Однако вши и тут были главным врагом, и борьба с ними отнимала много времени. Железная дорога проводилась вдоль реки Тимок, горами, которые изобилуют змеями. Эта местность славится лучшими солдатами (тимокская дивизия) и красивыми девушками, стройными, как цветы. Солдаты и пленные провожали тимочанок жадными глазами, а они с ужасом глядели на этих людей, покрытых грязью и вшами.
В разговорах с пленными немцами, особенно рабочими, Тодор заявлял себя социалистом и свободомыслящим: немецкая речь как бы пробуждала в нем ту городскую культуру, которую он усвоил себе во время восьмилетнего пребывания в Вене и Берлине. Но это нисколько не мешало ему сохранять бытовую верность сербским обрядам и верованиям. 29 апреля, в день своего святого, Тодор купил в селе свечку, ягненка, калач и пригласил к себе священника, который пришел к сербу из Баната с полной готовностью, прочитал молитву, разрезал калач, выпил сливовицы и поздравил со «славой». Были гости: сербы и чехи из Моравии и из Праги. Настроение за столом стояло приподнятое, все считали, что война кончилась и никаких опасностей больше не предстоит.
В таком настроении провели весну и лето. Железная дорога среди огромных трудностей продвигалась вперед. Работа чередовалась с праздниками. 26 июня, в день святого Илии, в Нишеваце был храмовой праздник. Народ сходился отовсюду, из 15 – 20 деревень, на церковную «славу»: старики и молодые, девушки в национальных костюмах и дети. Священник, протоиерей из Дервента, прибывший с женой и четырьмя черками (дочерьми), руководил торжеством.
После службы происходил в церковной ограде обед. День был жаркий, солнечный. Мужчины нарезали ветвей и укрепили их над длинным обеденным столом, чтобы защититься от солнца. Во время обеда цыгане играли на фрулях и на гейде. Прота произнес перед едою патриотическую речь, которую закончил тостом за короля Петра. Все запели национальный сербский гимн, а девушки водили хороводы.
Сидели за столом чинно, уважительно, в зрело обдуманном порядке. Во главе стола – сам прота Вуле, справа от него – молодой поп Душан, потом подпоручик Богосав из крестьян, потом Тодор, затем механик-чех, а дальше барышни, черки проты. Слева от него – Иоца Павлович, чиновник, потом податной чиновник, потом эконом Мильна Попович, потом местный гимназист Триша. Ели сначала «пилечу чорбу» (куриный суп), затем – «печено прася». Вино пили белое и черное. Потом подали другое «прася», и третье, и четвертое, при этом прота шутил насчет великой страды. Молодежь плясала, играла музыка. Девушки были одна лучше другой. «Есть трудно было, – записывал Тодор, – только и смотрел бы на красавиц… А дукаты во время танцев звенят на высоких грудях у них слаще всякой музыки».
После второго поросенка прота провел рукой по бороде и говорит: «Ну, Тодоре, теперь спой нам какую-нибудь песню из Баната». И Тодор не ударил лицом в грязь. За ним запели и другие. Чехи пели «Где домув муй». Так за вином оставались до шести часов вечера. Тут прота опять произнес речь: «Победа должна быть за нами, потому что с нами мать-Россия, цивилизованная Англия и культурная Франция», словом, сказал то, что можно услышать и прочитать не только в сербском захолустье.
Осенью прибыли сюда на работы русские моряки со своими инженерами и врачами. Работали на линии и днем и ночью. Из министерства каждые два-три дня приезжала ревизия. После 6 – 8 дней работы русские исчезли так же внезапно, как появились. Тодор записал в свою книжку приглашение своего нового друга Антона приехать к нему после войны в гости в Херсонскую губернию, в Ананьевский уезд. До окончания дороги осталось сделать несколько мостов, как вдруг пришел приказ оставить работы и со всеми вещами, с инструментами и повозками отправляться в Дервент, а оттуда – в Ниш. Шествие растянулось на десятки километров. Это было 4 октября. Болгарское вмешательство уже решило судьбу Сербии. Тодор писал обличительные стихотворения «Бугарскому вратоломнику – крволоку Фердинанду Кобурска» и снова с замиранием сердца думал о завтрашнем дне.
III
Стоял ноябрь, когда Тодор со своими людьми прибыл в Ниш. Этот раз город выглядел совсем иначе, чем весной. Шли непрерывные дожди, было холодно и сыро. Все готовились к выезду. Куда?.. Сновали автомобили, камионы, нагруженные телеги, верховые, но не весело, как раньше, а испуганно и бестолково. Население находилось в чрезвычайной тревоге, не зная, что готовит завтрашний день. Мальчишки, продававшие на улицах мокрые от дождя газеты, кричали о каких-то победах.
Из Ниша отправились на Прокупле и прибыли на второй день. Это было начало великого исхода, который длился четыре месяца – по крайней мере, для тех, которые не погибли в пути. В Прокупле находились уже многие тысячи беженцев. Закупали хлеб, сало, все что можно было. Одни направлялись на Рашку, другие – на Новый Базар. Тодор со своей строительной артелью из пленных двинулся вперед, поправляя, где нужно, дорогу и наводя мосты. Под его руководством состояло 280 человек, под конвоем всего-навсего двух старых ополченцев со старыми винтовками; предполагалось, что Тодор должен заботиться о пропитании своего отряда.
В Бруссе Тодор прямо с дороги ввалился со своими торбами в церковь. Было воскресенье. Церковь оказалась битком набитой крестьянами, солдатами, офицерами. Тодор пробрался к клиросу и с увлечением пел «Иже херувимы тайно образующе»… Местные прихожане сразу отметили его тенор. Высокий худой аптекарь, как оказалось, тоже родом из Баната, пригласил Тодора к себе в аптеку, расспросил про Белую Церковь, про Грушицу и угостил коньяком. По пути между Рашкой и Митровицей в поток отступающей армии вливалось все больше беженцев: мужчины, нагруженные домашним скарбом, старики, дети, женщины с котомками и грудными младенцами. Плакали, жаловались друг другу, и у всех новоприбывших оказывались одни и те же слова: «Недавно стали сербами, а теперь всем приходится погибать».