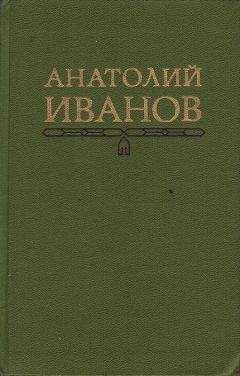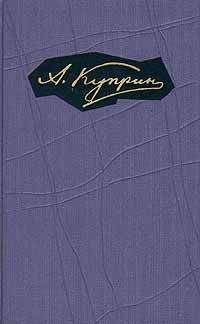Александр Блок - Том 5. Очерки, статьи, речи
Умеющий услышать и, услыхав, погибающий, он с нами. И вот ему — вся нежность нашей проклятой лирической души. И все проклятые яства с нашего демонского стола.
Не умеющий слушать, тот мещанин, который оглушен золотухой и бледен от ежедневной работы из-под палки, — вот ему его мещанский обед и мещанская постель. Ему трудно живется, и мы не хотим презирать его: он не виноват в том, что похлебка ему милее золотых снов, что печной горшок дороже звуков сладких и молитв.
Но умеющий слушать и умеющий обратить шумный водопад лирики на колесо, которое движет тяжкие и живые жернова, знающий, что все стихийное и великое от века благодетельно и ужасно вместе, знающий это и не хотящий признаться, — ему мы посылаем свое презрение. Он не задержит стихии. Он будет только маячить над ней, бросая свою уродливую тень на блистательную пену низвергающейся воды, бессильно стараясь перекричать грохот водопада. В облике его мы увидим только искусителя, возмущающего непорочный бег реки.
Ему посылаю свое презрение от лица проклятой и светлой лирики. Так я хочу.
2Так я хочу. Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим, — он перестанет быть лириком. Этот лозунг — его проклятие — непорочное и светлое. Вся свобода и все рабство его в этом лозунге: в нем его свободная воля, в нем же его замкнутость в стенах мира — «голубой тюрьмы». Лирика есть «я», макрокосм, и весь мир поэта лирического лежит в его способе восприятия. Это — заколдованный круг, магический. Лирик — заживо погребенный в богатой могиле, где все необходимое — пища, питье и оружие — с ним. О стены этой могилы, о зеленую землю и голубой свод небесный он бьется, как о чуждую ему стихию. Макрокосм для него чужероден. Но богато и пышно его восприятие макрокосма. В замкнутости — рабство. В пышности — свобода.
Все сказанное клонилось к тому, чтобы указать место лирика и начертить образ лирического поэта. Он сир, и мир не принимает его. В любой миг он может стать огненным вдохновителем — и паразитом, сосущим кровь. Сила его сиротливого одиночества может сравниться только с его свободным и горделивым шествием в мире.
Из всего сказанного я считаю необходимым вывести два общих места, которые не мешает напомнить, имея в виду полную спутанность понятий, происшедшую в мозгах у некоторых критиков. Первое общее место: лирика есть лирика, и поэт есть поэт. Право самостоятельности в последнее время лирике пришлось себе отвоевывать сызнова. И она отвоевала его. В этом деле сыграл немаловажную роль журнал «Мир искусства». Теперь — такие видные сотрудники этого журнала, как Д. В. Философов и Андрей Белый, начинают упрекать лирику в буржуазности, кощунственное™, хулиганстве и т. д. Остается спросить, почему они не упрекают ее в безнравственности, в которой когда-то упрекал их самих «граф Алексис Жасминов»? Из общего места, приведенного мною, следуют самые простые выводы: поэт может быть хулиганом и благовоспитанным молодым человеком — и то и другое не повредит его поэзии, если он — истинный поэт. Поэт может быть честным и подлецом, нравственным и развратным, кощунствующим атеистом и добрым православным. Он может быть зол и добр, труслив и благороден. Фет был умным человеком и хорошим философом, а Полонский не отличался большим умом и философом никогда не был. Поэт может быть хорошим критиком (как Валерий Брюсов) и плохим (как Андрей Белый, который поносит Сергея Городецкого и превозносит до небес Сергея Соловьева). Поэт совершенно свободен в своем творчестве, и никто не имеет права требовать от него, чтобы зеленые луга нравились ему больше, чем публичные дома.
Второе общее место гласит: поэты интересны тем, чем они отличаются друг от друга, а не тем, в чем они подобны друг другу. И так как центр тяжести всякого поэта — его творческая личность, то сила подражательности всегда обратно пропорциональна силе творчества. Потому вопрос о школах в поэзии — вопрос второстепенный. Перенимание чужого голоса свойственно всякому лирику, как певчей птице. Но есть пределы этого перенимания, и поэт, перешагнувший такой предел, становится рабским подражателем. В силу этого он уже не составляет «лирической единицы» и, не принадлежа к сонму поэтов, не может быть причислен и к школе.
Таким образом, в истинных поэтах, из которых и слагается поэтическая плеяда данной эпохи, подражательность и влияния всегда пересиливаются личным творчеством, которое и занимает первое место.
Из всего этого следует то, что группировка поэтов по школам, по «мироотношению», по «способам восприятия» — труд праздный и неблагодарный. Поэт всегда хочет разно относиться к миру и разно воспринимать его и, вслушиваясь, перенимать разные голоса. Потому лирика нельзя накрыть крышкой, нельзя разграфить страничку и занести имена лириков в разные графы. Лирик того и гляди перескочит через несколько граф и займет то место, которое разграфлявший бумажку критик тщательно охранял от его вторжения. Никакие тенденции не властны над поэтами. Поэты не могут быть ни «эстетическими индивидуалистами», ни «чистыми символистами», ни «мистическими реалистами», ни «мистическими анархистами» или «соборными индивидуалистами» (если бы даже последние две категории были реальными факторами жизни или искусства).
Переходя к разбору лирики последних месяцев, я постараюсь постоянно иметь в виду указанные общие места. Если они и сковывают, как присяга, то зато дают свободу от всяких посторонних тенденции, липнущих и жалящих, как слабые комары.
3. Бальмонт. «Жар-птица»Когда слушаешь Бальмонта — всегда слушаешь весну. Никто не окутывает души таким светлым туманом, как Бальмонт. Никто не развевает этого тумана таким свежим ветром, как Бальмонт. Никто до сих пор не равен ему в его «певучей силе». Те, кто согласился пойти за ним, пройти весь его многоцветный путь и видеть вместе с ним его жемчужные сны, — останутся навеки благодарны ему. Он — среди душных городов и событий — сохранил в душе весну, сохранил для себя и для всякого, кто верил в его певучую волю.
Было легко пройти с ним его необъятный путь. Так ярко было всегда его солнце, так вовремя умерялся зной его лучей и наступали синие прохладные вечера. И так недолги были неизбежные душные ночи, и опять уже серебрилась на всех лепестках утренняя роса.
Путь, пройденный Бальмонтом, так велик, что давно уже мы потеряли из виду исходный пункт. Бальмонт начал петь под скудным «северным небом», где была «безбрежность» — только волны, только воздух. И он погрузился в такую полную «тишину», в которой ясно дошел до его слуха слитный гул из веков и народов, которого он не слыхал прежде. И тогда страстная воля его захотела причаститься миру, стать «всем и во всем». Тогда к песням высочайшей простоты присоединились еще песни, где вся душа содрогалась и ломалась от зрелища зарев «горящих зданий», от вскриков «кинжальных слов». Здесь Бальмонт причастился городу, знаком которого так или иначе отмечены все поэты XIX века — эпохи торжественного и ужасающего роста промышленности, машин, изобретений, городов. Поэт с утренней душой прошел и этот путь — стремительно, как все пути, которые он проходил. Европа открыла ему свои сокровища, и он воспринял их с той щедростью, какая прилична и надлежит поэту, желающему быть всем и повсюду. И здесь, погрузившись в леса символов, он создал книгу, единственную в своем роде по безмерному богатству, — книгу «Будем как солнце». И одновременно — книгу, еще более нежную — «Только любовь». Следующая книга — «Литургия красоты» уже определила тот путь Бальмонта, на котором он стоит перед нами теперь. В ней он перегорел в пламени чистой стихии. «Злые чары» были тем лабиринтом, пройдя который поэт вернулся на просторы своей родины — иным, чем ушел от них. Весь искус Европы, вся многоцветность мира — с ним. И ясно, как день его души, почему в этот торжественный для себя день Бальмонт захотел весь мир залить щедрыми песнями, в которых ворожит и колдует его родина — та дикая и таинственная страна, на языке которой он поет. Легендарные были и песни ее Бальмонт захотел облечь в драгоценные одежды своего стиха. Захотел, как всегда, причаститься всем песням и былям, какие звучат до сих пор и какие сохранились только в жалких книгах нищих собирателей русской легенды. Не все одинаково далось ему. Здесь сказалась прежде всего его водящая, острая, нервная и капризная душа. Иные песни похожи на волжские зыби, просторны и широки, как они. В других — он захлебнулся в словах, впал, как и прежде с ним бывало, в беззвучную прозу, замутил ключи легенды, которая восстает из-за его беспорядочных стихов и дразнит и по-новому изумляет. Надо сказать, что Бальмонт, как везде, не выносит середины. Он дает всегда необычайное. Случается, что легенду, плохо сохранившуюся и бледную, он просвечивает алмазом своего стиха и возводит в перл создания. Случается, что легенду ослепительную он уничтожает дотла, так что надо только удивляться, куда девалась вся ее первозданная прелесть и мощь.