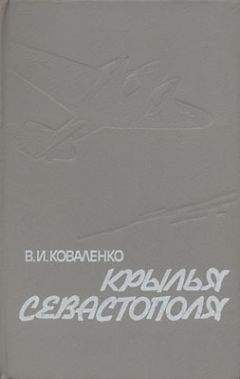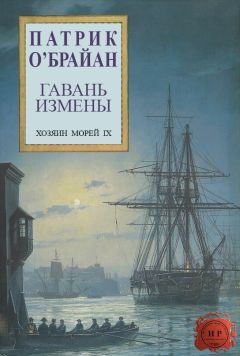Николай Черкашин - Последняя гавань Белого флота. От Севастополя до Бизерты
В этот раз отце привез мне штаны английского матроса! Я надел их рано-рано утром, и, стесняясь своего нового вида, бегаю вокруг палисада перед домом. Меня замечают и начинают подчеркивать, что заметили мой необычный вид. Я краснею от стыда и убегаю во флигель, но там тоже “замечают” все. И я снимаю штаны!
После отцовского “все можно” я, как правило, серьезно болел и однажды даже был при смерти. Отец разрешил мне выкупаться в том пруду с карасями... Этого мне никогда не разрешали. Отец считал меня очень сильным. Эту иллюзию он сберег до конца...
Мария Адриановна (мачеха-француженка. — Н.Ч.) передавала его слова по моему адресу — “он (я-то!) такой сильный!” Но он и требовал от меня как от сильного человека.
...Дома я ем за общим столом не настоящей вилкой, а маленькой — “устричной” вилочкой. Отец говорит маме, и в голосе его злость и досада: “Заставь ты его есть вилкой!” Мать отвечает жалкой улыбкой и молчит, и я, кривляясь, верещу: “Нет! Вилочкой!” Отец отворачивается. Ему досадно, противно...
Отец учит меня плавать где-то у моря. Взяв на руки, укладывает в нужную позицию, объясняет, что и как делать. Но я не хочу учиться плавать! Я хочу играть с волнами. Папа покушается на мое “право”, и я скандалю, вырываюсь, ору самым противным голосом, какой могу из себя выдавить. Отец рассержен. Он не награждает меня шлепками; он говорит что-то такое, что до меня не доходит никак. Но я знаю — Я ПОБЕДИЛ! (Криком и сопротивлением!) Я отстоял свое право на свободное времяпровождение в воде. И вообще: зачем плавать? Я хочу купаться! Да, я и боюсь плавать... А отец был прекрасным пловцом (это все говорили). И он обожал плаванье.
Отец был охотником. Но я только один раз видел, как он шел на охоту с дядей Мишей в Толпино. Они были в обтягивающих “штанишках”, какие-то очень широкие вверху и тоненькие внизу, ножки, будто чужие. И какие-то “туфли” (поршни, вероятно). У них на ремнях висели какие-то штуки, вроде свиных окороков, и я знал, что это ружья, но не интересовался, почему они такие.
Я не видел их возвращения, но поскольку за обедом не было дичи — они вернулись “пустые”. Они не взяли с собой собаки, хотя во дворе бродил очень старый пойнтер Джек (желто-пегий кобель). Джек был слишком старый, а может быть, он и не был рабочей собакой. Не знаю.
Из своих систематических и долгих отлучек (на Север. — Н.Ч.) отец привозил шкуры бурых и белых медведей, и пол в гостиной был устлан коврами из шкур с мертвыми головами и зубастыми ртами. Однажды он привез шкуру полярного волка — “белого” волка. Этот волк не был белым добела, как бывают белыми американские волки, он был очень-очень бледно-серый, а по хребту пучки серых (черных?) волос. У него были отрубленные лапы, и папа говорил, что они отрубили ему когти себе на украшения. Потом как-то он привез шкуру лисицы. Она была мокрая, и ее неприятно была держать в руках.
Отец громко рассказывал, как неприятно было иметь дело с местным населением, продающим эти шкуры. Они отчаянно торгуются, и, когда уже, кажется, что сторговались, когда покупатель уже отсчитал деньги, продавец униженно, но твердо говорит: “Копеечку-то прибавьте!” Это продолжается бесконечно. Наконец покупатель яростно посылает продавца к черту и уходит. Тогда сам продавец идет за покупателем и покорно сбавляет цену, но стоит покупателю отсчитать требуемую сумму, раздается остосатаневшее “Копеечку-то прибавьте!” Отец при этом и смеялся, и чертыхался...
Отец очень любил все живое. Именно ему я обязан всем, что привело меня на “олимп анимализма”. Если он со мной гулял, то подстрекал мое любопытство, все время о чем-то рассказывая, и ни один вопрос не ставил его в тупик. Больше всего нам встречалось нор кротов, в которые прятались от дневной жары зеленые южные жабы. Часто встречались мертвые птицы, особенно грачи. Грачей было много по всему высокоствольному парку, окружавшему большой фруктовый сад. Я любил искать птичьи гнезда. Ловко находил их, иногда брал себе одно яичко. Но я очень огорчался тем, что стоило мне найти гнездо, как в следующее же мое посещение оно оказывалось пустым.
Отец подарил мне трехтомник “Жизнь животных” Брема — мою настольную книгу до этих дней. Потом двухтомник Свена Гедина — “В сердце Азии”. Я уже достаточно хорошо читал к этому времени, и кое-что их этой книги помню наизусть. В книжном шкафу отца было очень много всяких книг. Резать их мне не пришло в голову!
Однажды я увидел на столе у отца статуэтку лося из какого-то металла. Отец подарил мне ее. Я все время ломал этому лосю ноги и бегал к отцу за починкой. Папа склеивал ноги этому лосю красным сургучом.
Отец очень любил собак. Рассказывали, что еще холостым он держал много собак и всех называл разными частями женского нижнего белья и вообще бабьих тряпок. Так у него был бульдог Лиф и какая-то собачонка Юбка. При мне у него перебывали три бульдога разом: рыжий с белой грудью — кобель Дженерал, сука белая с красными пятнами — Леди Смарт (что-то вроде форсистая Леди).
“Почему “Смарт”?” — спросил я у отца “У нее был красный ошейник”, — ответил он.
Третий был тигровый кобель Блэк. Они заболели чумкой и их увезли лечиться в стационар в Ревель, где они и угасли. И мы зачем-то ездили тогда в Ревель. Но я помню только, что в гостинице нам подали жареную камбалу: у нее мяса не было — была брюшина, набитая икрой. Это было невкусно.
Последним из бульдогов был Блекси, который умер на чердаке страшной смертью: его отравили куском мяса с иголками. Мучительная смерть в полном одиночестве на холодном чердаке. Умеют быть жестокими женщины!
Я собак боялся и не любил. Тем более, когда их было много. Тем более лаек, которые непрерывно грызлись. И Бьоркэ загрыз Марса, а таймырка утонула в подвале, куда ее выселили со щенками... А Бьоркэ летом попал под трамвай. Его вылечили, но куда пропал потом?
Однажды отец задумал покатать нас на собаках. Запрягли Бьоркэ, но он отказался тянуть — коренник, он тянул без комплекта в упряжке, так сказал отец. Брат Алексей не боялся собак, и отец ставил мне его в пример. Однажды отец взял на прогулку всю свору лаек, но я наотрез отказался идти с ними — я боялся. Алексей же храбро повел старого Полюса...
Отец любил начищенную медь (истый моряк!). Как-то юнга, вестовой, подал ненадраенный самовар. Отец пришел в ярость, и не знаю, чем бы это закончилось, не войди в столовую бабушка. Отец только и выдавил из себя, дрожа от злости: “Убирайся к черту!” Я уверен сейчас, что грудь его переполняли более сильные выражения, а юнга Павел (“Павлик Толстый”) счастливо избежал большой неприятности. Отец никогда не был доволен этим жирным, толсторожим бездельником. Вскоре от него избавились. Но “Павлик Тонкий” оказался нисколько не лучше.
Отец был фанатически религиозным. Точнее суеверно-религиозным. На его шее висел на цепочке целый арсенал крестов и крестиков, образков, амулетов — каких только не было!
В углу его кабинета стоял иконостас с “неугасимыми” лампадками. Я нередко по утрам заставал отца перед иконами на коленях — он истово молился. Тогда я тихонько опускался на колени рядом с ним... Но “мамины” молитвы? Они здесь были не те... Других я не знал. Просьбы, обращенные к Богу на разговорном языке, никогда не выполнялись, и я решил, что Он не такой уж “всеведущий”, если понимает только непонятный язык церковной службы.
У отца была икона Николая Чудотворца — Николы Морского. Отец поднял ее с затонувшего корабля (когда служил водолазным офицером. — Н.Ч.). Она была, как решето, изъедена червем-древоточцем, но отец считал, что икона не может потерять своей чудодейственной силы от “травмы”.
Отец никогда не проходил мимо церкви или иного священного места, не перекрестясь. При этом он крестился мелко-мелко — “чистил пуговицы”, как говорили.
Дядя Сережа и дедушка с бабушкой ставили меня в неловкое положение за столом тем, что любили повторять избитые поговорки. Например, если подавали пирог с сушеными белыми грибами, дядя Сережа первым говорил, обращаясь ко мне: “Ешь пирог с грибами и держи язык за зубами”. За ним это же повторяла бабушка. И другие не отставали! Все они при этом близко наклонялись ко мне и заставляли разглядывать их прыщи, угри, бородавки, волосики и капельки пота.
Это было отвратительно! Они доводили меня до отвращения к пище. “Культура”!
А отец за столом любил шутить, но он никогда не надоедал и не любил избитых острот. Это он как-то рассказал о двух евреях, которые, попав в воду, все время разговаривали. Два еврея спаслись от наводнения, когда все прочие люди утонули. “Как вы спаслись?” — спросили их. “А мы шли и разговаривали, попали в воду и все время разговаривали!” При этом отец широко махал руками, как плывущий саженками. Все смеялись. Я запомнил этот анекдот на всю жизнь. Но я тоже хочу острить! И я говорю такие глупости, от которых отцу становится плохо. “Ох, как ты остришь! У меня даже живот заболел, зубы заболели!” А я старался еще пуще! Мне было весело. Я — замечен!